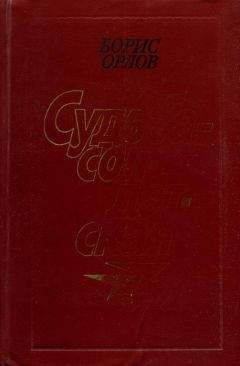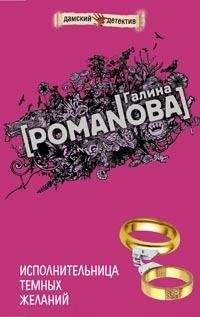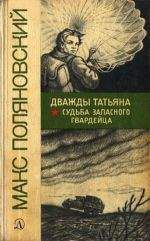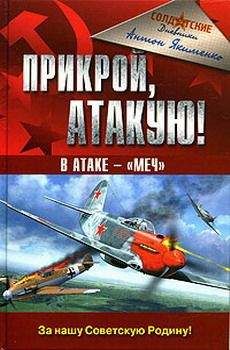Лев Якименко - Судьба Алексея Ялового
— Тимофеевна, вы скоро? — окликнула ее сгорбленная старушка, терпеливо ожидавшая в сторонке.
— Сейчас, сейчас… — отозвалась Тимофеевна. — Кличут меня, — протянула она, улыбнулась, — видно, красивые были у нее в молодости глаза, улыбка прошла по ним, они засветились глубоко и ясно, будто не было горя, утрат, болезней, одинокой старости. Добавила: — Женщина из станицы. В церковь приезжала. Ночевать будет. Кровать у меня есть свободная. Пускаю.
Я смотрел ей вслед. Вспыхивают голубые неоновые огни на кинотеатре. Идет картина «Вызываем огонь на себя». Сквозь темную шевелящуюся листву высоких акаций струится, переливается дымчатый нездешний свет, а повыше, в темном бездонном провале неба, вспыхивают одна за одной, все ярче разгораются звезды, и среди них справа над горой выделяется неподвижный красный глазок — там у нас ретрансляционная телевизионная вышка. Вот и телевизоры появились в нашем городке.
«А про Петьку она не вспомнила», — думаю я. И рассказывают, никогда не вспоминает. И с ней никто о нем не заговаривает.
В первые годы после войны я как-то повстречал ее мужа. Он воевал, был награжден, вернулся снова к своему ремеслу и пил по-прежнему, от этого, видимо, и умер раньше времени. Но тогда он был еще довольно крепок, с черными лихими солдатскими усиками, «выпимши», как сказал сам, но на ногах стоял твердо.
Смотрел, смотрел на меня, качал головою каким-то своим мыслям.
— Ты русский, — неожиданно сказал он. — И я русский… А он не русский. Предатель родины он!
Он согнулся, скорчился у стены, будто жгло, пекло его невыносимо изнутри, и плакал. Лающий плач мужчины. Пошел, побежал согнувшись к калитке.
А вот мать ни разу при мне не вспомнила Петьку. И дома я у нее был. Фотографии мужа, родственников. Она сама в молодые годы. А Петькиной карточки нигде нет. Будто и не жил он. Будто и на свете его никогда не было.
И мне показалось, самый страшный суд в этом молчаливом проклятии матери.
ПОСТУПЛЕНИЕ В ИНСТИТУТ
Приемом в институт ведал Кобзев. Должность его называлась: «Ответственный секретарь приемной комиссии». А вообще он был в институте то ли помощником, то ли заместителем директора по студенческим делам.
Недели две я напрасно добивался от него серьезного объяснения. Короткие разговоры на ходу, в коридоре, на лестничных площадках, по пути в буфет ни к чему не приводили. Я только и успевал — в который раз! — сказать, что без литературы мне не жить и что он, я надеюсь, чуткий человек, поймет меня…
— Разберемся, разберемся, — лениво говорил Кобзев и шел неторопливо куда-то по своим делам.
Я заметил, что он все делал неторопливо, с этакой сонной развальцей.
Я переводился из одного института в другой. Из технического в гуманитарный, на литературный факультет. И это было пыткой. «Зачем, почему? На вас государство тратило деньги!» Но разве нельзя было понять, что если я решился оставить институт, в котором успешно проучился год, то для этого были свои чрезвычайно важные причины. Неискоренимая любовь к литературе. Желание жить искусством.
Мне казалось, тот год я прожил, как птица со связанными крыльями. Чувство несвободы, насилия мучило и угнетало меня. «Должен, должен!» — заставлял, подгонял я себя. И учился. Вытягивал, поэтому меня и не хотели отпускать из института. С трудом я вымолил документы.
Мне казалось, уже одно то обстоятельство, что я совершал такой шаг, уходил из прославленного энергетического института, должно было открыть передо мною двери литературного факультета. Тем более что закончил я школу отличником и имел право на поступление без экзаменов.
Но Кобзев, очевидно, думал иначе.
В один из августовских дней он согнутым наподобие крючка пальцем выдернул меня из группки поступавших и тут же, у шумной застекленной двери, у входа в приемную комиссию, доверительно сказал:
— Ну вот, принято решение и по вашему вопросу.
И, немного выждав, добавил:
— Вам отказано.
Он вскинул глаза. Студенистые, зыбкие, — казалось, без зрачков. Они смотрели на меня скучающе-доброжелательно, с неким вопросцем, который заранее предполагал повторение уже сказанного.
У меня слов не нашлось.
Он был очень вежливый человек, этот Кобзев. Он протянул мне на прощание короткопалую жирную руку и размеренно-ленивым голосом пожелал успехов.
Я смотрел на его уверенно-хозяйский затылок, на достойно удаляющуюся спину с покатыми плечами, туго обтянутыми чесучовым пиджаком, и мне казалось, что он издевается надо мною.
Но если был ответственный секретарь, то должен был быть и председатель.
Я пошел к директору института. «Старая большевичка, иди!» — советовали ребята.
В кабинете директора пахло то ли духами, то ли цветами. Сиренью, что ли. Я волновался, цветов не заметил и споткнулся дважды на ковровой дорожке.
— О-о, снова подвернулась, — неожиданно звучным полным голосом сказала директор. Высокая и прямая, вышла из-за стола. Легко наклонилась, длинными, чисто промытыми пальцами тронула дорожку, поправила.
Я обалдело стоял возле стола и не догадался ей помочь. То есть, что надо помочь, я сообразил сразу. Но пока прикидывал, что и как, а затем восхищался простотой и демократизмом, директор, в темном английском костюме, в белой, глухо застегнутой блузке, уже была возле своего кресла. Она не очень торопилась сесть. Мне даже показалось, ей приятно было, что представилась возможность встать, пройтись, наклониться. Через много лет, когда мне самому приходилось подолгу сидеть за письменным столом, на всякого рода собраниях и заседаниях, я узнал эту радость неожиданного движения, хотя бы самого незначительного.
— Ну, так что же вас привело ко мне? — спросила она, неторопливо усаживаясь на свой стул с широкими подлокотниками. Предложила сесть и мне.
Тут я ее поближе рассмотрел. Что меня удивило, — у нее почти не было седых волос. В темный небольшой узелок собраны на затылке. И лицо продолговатое, проглаженное, без заметных морщинок. Лицо ухоженной и заботящейся о себе женщины. Никак не скажешь, что старуха. Только потом я разглядел морщины у глаз, приметил обвисшую кожу у рта…
А глаза у нее были, не в пример Кобзеву, доброжелательные, светло-голубые, со смешинкой даже.
Я приободрился и рассказал о своем деле.
— Вы напишите, голубчик, вот тут на листочке, чтобы я не позабыла. — Она подвинула ко мне деревянный кармашек с вложенными в него плотными листиками белой бумаги.
— Да нет, не здесь, а там, у секретаря. — Она улыбнулась моей недогадливости, потому что я уже было потянулся за ручкой, чтобы тут же, за ее столом, заполнить листок для памяти.
Она отчетливо произносила слова своим музыкальным, хорошо поставленные голосом, выговаривая их чуть в нос.
— Ответ узнаете у Александра Иосифовича. Он пригласит вас и сообщит.
Она кивком головы простилась со мной и склонилась над бумагами.
Я был очарован мягкостью обхождения, благородной сдержанностью, участием. И уж абсолютно был уверен, что все решено.
Кобзев проманежил меня еще две недели. Перед самыми занятиями, в конце августа, сказал:
— Мы нашли возможным положительно решить ваш вопрос. Вы зачислены на исторический.
Я был ошеломлен.
— Как на исторический?.. Я ведь только ради того, чтобы учиться на литературном…
Чуть ли не впервые я узнавал удручающее чувство беззащитности и беспомощности, властную силу враждебных обстоятельств. Словно кто-то неутомимый и враждебный воздвигал передо мною все новые и новые, казалось непреодолимые, препятствия. Кажется, до меня начинал доходить смысл поговорки: «Лбом стенку не прошибешь». Но кто и почему воздвигал передо мною эту стенку — вот что было для меня необъяснимо и непонятно.
— Я… я не согласен с вами. И вы поступили несправедливо, неправильно, против закона… — сказал я со всей твердостью, на какую был способен в ту минуту.
Но у Кобзева, оказывается, были высокие государственные соображения, когда он за меня решал мою судьбу.
— Послушайте! — сказал он. Голос его звучал веско и значительно. — Я присмотрелся к вам. Вы не знаете себя. Своих действительных возможностей. Исторический факультет подходит вам лучше всего. Вы не раз еще вспомните и поблагодарите меня.
И он удалился с уверенным сознанием своей проницательности и исполненного долга.
Я смотрел ему вслед. И жгучая тяжесть обиды, несправедливости кружила мне голову, выжимала слезы из глаз.
Я не мог поверить, что, оказывается, есть люди из той злой породы, которая находит пакостное удовольствие мучить своих ближних при всяком сколько-нибудь подходящем случае. Как же иначе можно было объяснить происходившее со мной?
Почему мне все это так запомнилось? Почему об этом я говорю?
Недавно с поэтом-сверстником мы разговаривали о нашем поколении. Он сказал: социальный идеализм, с этим мы входили в жизнь.