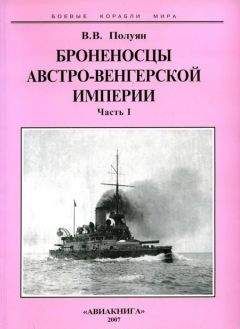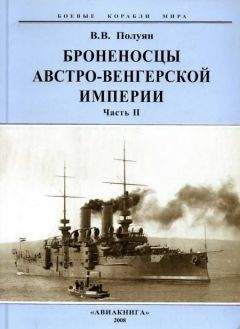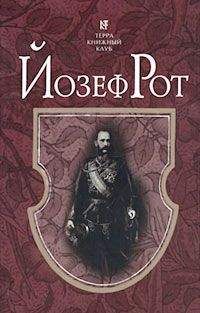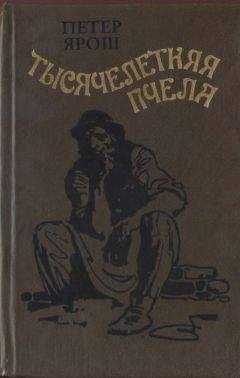Яромир Йон - Вечера на соломенном тюфяке (с иллюстрациями)
Только часто писать я не мог.
Наша рота обороняла железнодорожное полотно, мостовую арку и виадук.
Русские обстреливали из пушек вокзал, а там стоял поезд с боеприпасами.
Случилось это часов в девять утра.
Вдруг — снаряд, словно дикий кабан. Я так и влип в землю. Один вагон с прямого попадания взлетел на воздух.
Вокзал рассыпался, точно карточный домик. Машинист вывалился из паровозной кабины.
Кочегар на паровозе доехал до самых наших позиций.
Изо рта у него текла кровь.
Вагоны горели.
И рвались один за другим.
Куски железа и щепки летали над нашими головами.
Вызвалось нас шестеро — добровольцев.
Вскарабкались мы на паровоз, скорчились за тендером, гоним состав задним ходом.
Четырнадцать вагонов удалось отцепить.
Я ехал в последнем, на буфере, уж мы были шагах в пятистах от цели.
Думалось, все сойдет благополучно. Но тут взорвался третий с конца вагон.
Железяка с шурупом — видать от засова — застряла у меня под лопаткой.
Я потерял сознание.
Ребята потом говорили, что висел я на буфере, как мокрая тряпка.
В госпитале меня три раза оперировали.
Один раз в Кракове и два — в Вене.
Рана гноилась. Пропустили мне через легкие резиновые трубочки.
Я был на краю могилы. Ослаб, постарел самое малое лет на двадцать.
Марженке вместо меня писали товарищи.
Она слала длинные письма, оправдывалась, что не может ко мне приехать, все болеет, и на лекарства уходит уйма денег. Дети, мол, здоровы, и чтобы я приезжал, как только смогу, а уж она постарается быть веселой, всякое мое желание будет угадывать, дома, мол, мне наверняка понравится…
Поедешь тут, черта с два!
Много недель провалялся я на койке, глядя в потолок.
По вечерам температура поднималась. Ночью мучили кошмары. А проснусь — до того тоскливо, одиноко сделается, хоть вой.
Как мне тогда хотелось, чтобы жена с детьми приехала в Вену!
К другим раненым, бывало, приходят посетители, а меня зависть разбирает.
«Умрешь, — думаю, — и ни одна живая душа о тебе не пожалеет. Дадут тебе номер, и будешь ты цувакс [119] на кладбище. Внесут твое имя в книгу… Просторнее в палате станет, да сестричка Роза порадуется, больно много ей с тобой мороки, взять хоть одни перевязки».
Как‑то обходил тяжелораненых монах‑капуцин. По-чешски он говорил плохо, все утешал да раздавал божественные картинки.
Подошел ко мне: не хочу ли исповедаться.
— Хочу, — отвечаю.
Нет ли у меня чего на совести?
Гляжу в потолок и думаю. Ведь я за всю свою жизнь никому зла не причинил! А разве не так? Свою добрую Марженку и деток своих всегда любил. Случалось, конечно, и побраню, что верно, то верно. Да только в какой семье не бранятся! Без этого не бывает. Разве ж я святой? Разве ж Марженка ангел?
И говорю я монаху:
— Я, ваше преподобие, вшивый был.
Капуцин поднял голову и спрашивает у сестры Розы:
— Вас ист дас «шивы»?
Та не знала.
Взводный Кучера, слуга князей Шаумбург-Липпе, что лежал на соседней койке, объясняет:
— Вшивый, ваше преподобие, — это гаунер [120].
Капуцин даже глаза вытаращил.
— Шене захе! [121] — и сунул в нос щепоть табаку.
Больше я его преподобию не сказал ни словечка. Велел он мне трижды повторить «Отче наш» и трижды «Богородице, дево, радуйся».
А толку что?
Лежу я и все думаю про Марженку, про Франтика с Руженкой.
Гляжу на матерь божью Мариацельскую, что нарисована на картинке, во все глаза гляжу, моргаю… И вижу не богородицу, а печальную мою Марженку.
Вокруг головы нимб, и лучи от него. А по бокам сплошь лилии, лилии, букеты в вазочках, ангелочки.
Вспомнил я чижика, как он помер, вспомнил деток своих дорогих… Все-все… А у самого слезы в глазах…
Война, братики мои, доказала: вовсе это не самое главное — красота да наряды!
Коли женщина — мать, надо иметь к ней уважение, какая бы она ни была, красивая или некрасивая. А главное — жить нужно так, чтобы, когда один из двоих умрет, второй бы себя ни в чем не мог упрекнуть. Смерть — она все сравняет: богатство, славу, счастье и всяческую подлость. Уложит на голые доски паршивого и вшивого, бедняка и богача. Всех в одну компанию.
Совесть спросит тебя: что хорошего сделал ты в жизни, любезный?
Да… У всякого свои недостатки.
Я вот горячий… Слов не выбираю… Но сердце у меня доброе.
А у Марженки опять же тот недостаток, что она хворая и некрасивая. Хотя вины ее тут нету. Это несчастье. Но мать она хорошая, жена честная и любит меня…
И вот тогда, в госпитале, решил я про себя: что бы там ни случилось… где я уступлю — Марженка настоит на своем… Зато в другой раз наоборот. Так миром и поладим, деток вырастим и помирать будем со спокойной душой.
* * *Через год и десять месяцев вернулся я домой.
До чего же не терпелось мне поскорее увидать их, моих родимых.
И вот оно: иду с Марженкой и детьми с вокзала.
Даже странно как‑то, словно чужие они. А все-таки вроде бы и свои… Что было прежде, кануло в какую‑то страшную даль, в тридевятое царство… Идем помосту — господи, сколько раз я здесь хаживал! И чего только при этом не думал! Веду за руку мальчика — он вытянулся, повзрослел. Руженка — та словно кубышка. Семенит с мамой впереди, в волосах бант, кокетка! Жена уж почти что старушка. Вкус к еде, говорит, совсем потеряла, если только капельку молока… Полеживает частенько. Гляжу на нее сзади — сгорбилась… Надела, бедняжка, корсет, шляпу с пером, шелковую блузку с огромным вырезом. Никогда не любила она щеголять в таких нарядах, сколько я упрекал ее за это еще до свадьбы нашей. И вот теперь в первый раз ради торжественной встречи решила надеть, чтобы понравиться мне, девочка моя золотая…
Франтик оглядывается на прохожих: как же, он ведет домой отца, раненого, героя войны!
— Папочка, вы ведь в военных делах разбираетесь. У Пепика Кржижека отец в обозе, так ребята говорят, будто обоз не войско.
— Милый мой мальчик, обоз тоже войско, только он всегда позади.
— А ты, папочка, не обозник?
— Ясное дело нет. Я пехотинец. А пехота в самых что ни на есть первых рядах.
— Калоусек в школе хвастал, что у его отца отрезали ногу.
— Эй, парень, уж не стыдишься ли ты, что у твоего отца обе ноги целы и только куска лопатки не хватает? Того и гляди, ты бы обрадовался, если бы мне оторвало голову, а? Хе-хе… Разве не так, мой золотой? Вот бы когда ты перекозырял Калоусека!
Что‑то в душе мне говорило:
«Ваша, ты же добрый человек и семьянин примерный, только вот зря язык распускаешь». Сдержал я себя и отвечаю:
— Скажи своему Калоусеку, что он последний дурак!
Теперь я уже вел за руки обоих детей.
Шагаю словно во сне…
Жена поспешает за нами и рассказывает, что в городке нового.
Идем по тротуару.
Больше всего удивляло меня, что в нашем городке прежние улицы, дома, магазины, люди.
Кажется, все бы должно перемениться за эти двадцать два месяца.
А тут все так же.
Где раньше были на площади лужи — там они и сейчас.
Только кладбищенский забор перекрасили в коричневый цвет.
Да пан Штика, купец, перестроил фасад.
Гляди‑ка, вышвырнул на помойку святого Яна Непомуцкого и вместо него поставил в нише статую какого‑то языческого бога с золотой надписью.
— Хальт, дети, я должен прочитать, что тут написано.
Читаю:
— «Меркурий, бог торговли, благослови сей дом».
Жена рассказала, что Штика ужасно разбогател за годы войны. Нажился на спекуляции. А вот и сам он, старикан, — посиживает, как бывало, на стульчике перед лавкой, в шлепанцах и круглой шапочке.
Владелец табачного склада пан Изерштейн увидал меня издалека. Подбежал, руку трясет, сунул мне пачку турецкого табака.
Фотограф «Рафаэль» до сих пор не сменил в витрине пропыленные фотографии. А сам он, говорят, все такой же пьянчужка.
Мой конкурент Недомлел знай себе выпускает всякий печной брак. Кафель — ни единого нового образчика.
Трактирщика Махачека все еще мучает подагра. Ковыляет с палочкой… Тоже, говорят, нажил полмиллиона.
Вон сидит аптекарь. Черт возьми, как растолстел! Разносит его, словно на дрожжах…
Канава на Кожелужской смердит не меньше прежнего, ни жестянок, ни утопленных котят в ней не убавилось.
Значит, старая Фиалкова померла. Так, так…
Драшнар, сапожник, бросил ремесло и теперь живет запасами, которые прикопил от заказчиков.
Папаше моей дорогой Марженки живется неплохо. Подзаработал на фруктах, да вот упал с молодой яблоньки и сломал ключицу.
Про кого из знакомых ни спросишь — на фронте.
И горбатый Паржизек тоже.
Бржетька Когоут погиб в Италии. Тобиаш теперь калека, а ведь такой ловкий был парень…