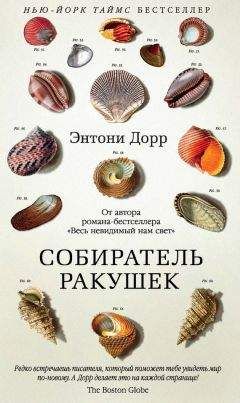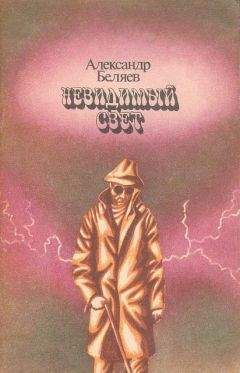Энтони Дорр - Весь невидимый нам свет
Кто-то кашляет, кто-то стонет во сне. Далеко за озерами одиноко гудит поезд. Поезда идут на восток, всегда на восток, за холмы, на широкий истоптанный простор фронта. Они идут даже тогда, когда Вернер спит. Стуча, проезжают катапульты истории.
Вернер зашнуровывает ботинки, поет песни и марширует, не столько по принуждению, сколько по застарелой привычке к исполнительности. Бастиан идет вдоль сидящих за столами кадетов:
— Что хуже смерти, ребята?
Поднимает какого-то бедолагу.
— Трусость! — отвечает тот.
— Трусость, — соглашается Бастиан, и мальчишка садится, а комендант идет дальше, довольный, кивая самому себе.
В последнее время он все проникновеннее говорит о фюрере и о том, что фюреру нужно: молитвы, нефть, верность. Фюреру нужны стойкость, электричество, кожа для сапог. Приближаясь к шестнадцатому дню рождения, Вернер все отчетливее понимает, что на самом деле фюреру нужны мальчики. Они длинными колоннами шагают к конвейеру. Отдай фюреру сливки, сон, алюминий. Отдай отцов Рейнхарта Вёльманна, Карла Вестергольцера и Мартина Буркхарда.
В марте сорок второго доктор Гауптман вызывает Вернера к себе в кабинет. Пол заставлен недоуложенными ящиками. Гончих не видать. Маленький учитель расхаживает из угла в угол и не замечает Вернера, пока тот не подает голос. Вид у Гауптмана такой, будто его медленно куда-то засасывает, а он ничего поделать не может.
— Меня вызвали в Берлин. Хотят, чтобы я продолжил работу там.
Гауптман берет с полки песочные часы и ставит в ящик. Пальцы с аккуратными ногтями повисают в воздухе.
— Все будет, как вы мечтали, герр доктор. Лучшее оборудование, лучшие умы.
— Свободны, — говорит доктор Гауптман.
Вернер выходит в коридор. За окном на заснеженном плацу тридцать первогодков бегут на месте, выпуская короткоживущие облачка морозного пара. Толстомордый отвратительный Бастиан что-то орет. Поднимает короткую руку — мальчишки поворачиваются на каблуках, вскидывают винтовки над головой и бегут на месте еще быстрее, сверкая голыми коленками в лунном свете.
Посетители
В доме номер четыре по улице Воборель звенит электрический звонок. Этьен Леблан, мадам Манек и Мари-Лора разом перестают жевать. Каждый думает: «Меня разоблачили». Передатчик на чердаке, женщины в кухне, сотня походов к океану.
— Вы кого-нибудь ждете? — спрашивает Этьен.
— Никого, — отвечает мадам Манек.
Женщины вошли бы через кухонную дверь.
Все трое идут в прихожую. Мадам открывает дверь.
Французские полицейские, двое. Объясняют, что прибыли по просьбе Парижского музея естествознания. От скрипа их каблуков по доскам прихожей только что не вылетают стекла. Первый что-то жует — яблоко, решает Мари-Лора. От второго пахнет кремом для бритья. И жареным мясом. Как будто они только что обжирались.
Все пятеро — Этьен, Мари-Лора, мадам Манек и полицейские — сидят на кухне за квадратным столом. От овощного рагу полицейские отказались. Первый прочищает горло.
— Справедливо или нет, — начинает он, — его осудили за кражу и участие в преступном сговоре.
— Все заключенные, политические и уголовные, — говорит второй, — направляются на принудительные работы, даже если не приговорены к ним.
— Музей разослал письма всем начальникам тюрем в Германии.
— Мы до сих пор не знаем, в какой он тюрьме.
— Мы предполагаем, что в Брайтенау.
— Мы уверены, что настоящего суда не было.
Из-за спины у Мари-Лоры взмывает голос Этьена:
— Это хорошая тюрьма? Я хочу сказать, она получше других?
— Боюсь, хороших немецких тюрем не бывает.
По улице проезжает грузовик. В пятидесяти метрах отсюда волны накатывают на Пляж-дю-Моль. Мари-Лора думает: они просто произносят слова. А что такое слова? Просто звуки, которые эти люди производят своим дыханием, невесомый пар, который они выпускают в воздух кухни, чтобы обмануть и сбить с толку. Она говорит:
— Вы ехали так долго, чтобы сообщить то, что мы и без вас знали?
Мадам Манек берет ее за руку.
Этьен произносит тихо:
— Мы не знали про Брайтенау.
— Вы сообщили музею, что он сумел передать вам из тюрьмы два письма, — говорит первый полицейский.
— Можно на них взглянуть? — спрашивает второй.
Этьен уходит наверх, радуясь, что кто-то занялся поисками его племянника. Мари-Лора тоже должна бы радоваться, но на нее почему-то накатывают подозрения. Она вспоминает, как отец сказал в Париже, в ночь немецкого вторжения, когда они ждали поезда: «Каждый за себя».
Первый полицейский выковыривает из зубов кусочек яблока. Они смотрят на нее? От их близости ее мутит. Возвращается Этьен с письмами, слышно, как листки переходят из рук в руки.
— Он что-нибудь говорил перед отъездом?
— О каком-нибудь конкретном деле или поручении, про которое нам следует знать?
У них прекрасный парижский выговор, но поди угадай, кому они служат. Нельзя доверять никому, кроме тех, в чьих руках и ногах течет та же кровь, что в ваших. У Мари-Лоры такое чувство, будто они все пятеро в мутном аквариуме, полном рыб, безостановочно поводящих плавниками.
Она говорит:
— Мой отец не вор.
Мадам Манек стискивает ей руку.
— Он думал о своей работе, о дочери. О Франции, конечно, — говорит Этьен. — Как всякий человек.
— Мадемуазель, — первый полицейский обращается прямо к Мари-Лоре, — упоминал ли он что-нибудь конкретное?
— Нет.
— У него в музее было много ключей.
— Он сдал их перед отъездом.
— Можно нам посмотреть то, что он привез с собой?
— Например, его чемоданы, — подхватывает второй.
— У него был один рюкзак, с которым он и уехал, когда директор попросил его вернуться, — говорит Мари-Лора.
— Можно нам все равно посмотреть?
Мари-Лора чувствует, как напряжение в кухне нарастает. Что они рассчитывают найти? Она думает про радиооборудование наверху: микрофон, передатчик, все эти шкалы, тумблеры и провода.
— Можете осмотреть что хотите, — говорит Этьен.
Полицейские заходят во все комнаты. Третий этаж, четвертый, пятый. На шестом открывают огромный платяной шкаф в дедушкиной спальне, затем пересекают лестничную площадку и стоят над макетом Сен-Мало в комнате Мари-Лоры, что-то говорят друг другу шепотом и спускаются в кухню.
Они задают только один вопрос: о трех флагах «Свободной Франции» в кладовке второго этажа. Зачем Этьен их держит?
— Вы подвергаете себя опасности, храня дома такие вещи, — говорит полицейский.
— Власти могут счесть вас террористом, — добавляет второй. — Людей арестовывали за меньшее.
Угроза это или дружеский совет — понять трудно. Кого он имел в виду, говоря, что арестовывали за меньшее? Папу?
Полицейские заканчивают обыск, очень вежливо прощаются и уходят.
Мадам Манек закуривает.
У Мари-Лоры в тарелке все остыло.
Этьен возится с каминной решеткой. Один за другим отправляет флаги в огонь:
— Хватит. Хватит. — Второй раз он произносит это слово громче. — Только не здесь.
Голос мадам Манек:
— Они ничего не нашли. Тут ничего и не было.
Кухню заполняет едкий запах горящей ткани.
Дядюшка говорит:
— Со своей жизнью, мадам, можете делать что угодно. Вы всегда помогали мне, и я постараюсь помочь вам. Однако я запрещаю вам заниматься этим в моем доме. И запрещаю вовлекать в ваши дела мою племянницу.
* * *Дорогая Ютта!
Все очень сложно. Даже бумагу трудно ▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅ У нас ▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅ не топят в ▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅ Фредерик говорил, что никакой свободной воли нет, что жизнь каждого предопределена, как ▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅ и что моя ошибка ▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅ Надеюсь, когда-нибудь ты поймешь. Целую тебя и фрау Елену. Зиг хайль.
Лягушка сварится
Всю следующую неделю мадам Манек очень мила и любезна. Почти каждое утро водит Мари-Лору к морю, берет ее с собою на рынок. Однако она здоровается с Этьеном и Мари-Лорой рассеянно-вежливо, как с чужими. Иногда пропадает на полдня.
Дни Мари-Лоры стали более долгими, одинокими. Как-то вечером она сидит за кухонным столом, а дедушка читает вслух:
«Яйца улиток невероятно живучи. То же относится к самим улиткам. Мы наблюдали их вмерзшими в глыбы льда, и тем не менее под действием тепла они оттаивали и возвращались к жизни».