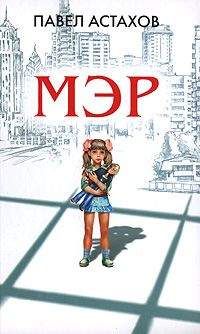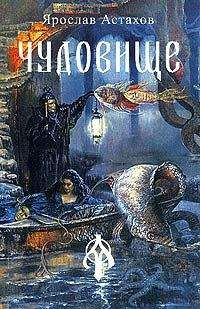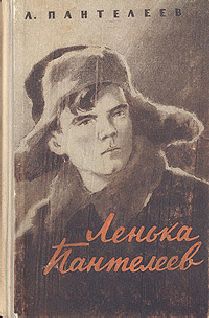Лёнька. Украденное детство - Астахов Павел Алексеевич
– Граждане, теперь попробуйте каждый определить себе место возле стенки так, чтоб спиной к стене, а ноги вперед в центр вытянуть. Поскольку, похоже, нам Гитлер перин и кроватей не приготовил, придется усаживаться на солому.
– Ой, так она ж вся изгажена и воняет.
– Тут, кажись, коров да телят возили?
– Как же мы тут ляжем-то? – неслись с разных сторон возгласы.
– Бабоньки, милые, а как иначе-то?! – увещевала их самая активная женщина-организатор. – И чем быстрее устроимся, тем лучше. Не дай Бог тронемся, так вообще не разберемся, а про вонь да грязь нам забыть покамест надо. Позже будем отмываться да оттираться! Кто с детишками поменьше, идите в угол, там почище должно быть и с двух сторон защита. А кто один, так не серчайте, но ваше слово последнее. Займете то, что останется. Себя-то легче содержать да обиходить. Нам всем сейчас детишек надо сберечь.
Одиноких в вагоне было всего трое. Причем среди них оказалась та самая женщина, что всех распределяла и увещевала – бездетная солдатка сама вызвалась командовать вагоном, звали ее Катерина. Еще бездетными числились молодая вдова Олёна и совсем юная девушка Марьяна, которая руководила раньше пионерской организацией школы, где вместе с Лёнькой учились девчонки и мальчишки. Зато у матери Вани Бацуева было сразу двое на руках: Настя двенадцати лет и Петюня шести годков, он еще только в школу собирался. Лёнькиных ровесников рядом не оказалось. Лишь еще четыре пацана от трех до семи лет и семь девчонок от четырех до пятнадцати. Итого в вагоне, как и вещали немцы, поместилось тридцать человек. Тесно внутри не было, но и удобно тоже. Судя по соломе, навозу и резким запахам, здесь немцы перевозили отобранную у крестьян скотину: коров, телят и быков, свиней, овец и коз. То есть все, что смогли отнять у честных сельских работяг под лозунгом «помощи Великой Германии». Такие эшелоны в первые месяцы войны шли со всех оккупированных территорий в рейх и вывозили не только домашний скот да дорогие предметы, но и выкопанный урожай и даже чернозем. А теперь и людей – самых беззащитных: женщин, детей, молодежь.
За дверями вагона послышались крики, свистки и топот. Состав заскрипел, застонал и дернулся.
– Поехали… – выдохнули люди внутри.
Начался долгий путь в неизвестное и опасное будущее. Поезд набирал ход, раскачиваясь, скрипя и ухая как усталый могучий труженик. Новое обиталище тряслось, дрожало и грохотало. При каждом ударе и толчке женщины вскрикивали, а дети, пугаясь, плакали. Все быстрее и быстрее крутились колесные пары, все чаще и чаще стучали буфера и сцепки, все дальше и дальше от дома уносил людей «поезд скорби». Матери успокаивали малышей, которые под монотонный, хотя и грохочущий, стук постепенно засыпали, вымотанные и уставшие.
Лёнька прикрыл глаза. Он думал о Таньке, оставшейся в лесу. Сумела ли она добраться до наших? Нашла ли дорогу до Павликовой сторожки? А если нет? Он вздрогнул, представляя, как несчастная Танька блуждает по чащобе и попадает в непроходимую трясину.
– Ты что, сынок? – спросила мать, склонившаяся над ним. – Поспи, поспи. Надо сил набираться. Неизвестно, сколько нам еще мыкаться.
Она прикрыла как могла сына полой своей старенькой кофты и прижалась к нему. Свернувшись в комочек, он тоже уткнулся в родного человека и засопел, дыша маминым воздухом. Лёнька чувствовал ее тепло, нежные объятия, ее вкусный, ни с чем не сравнимый запах, единственный и неповторимый для каждого человека на земле – мамин запах.
Он закрыл глаза, и почти сразу появилась Танька. Девочка стояла, протягивая руки куда-то вперед, на краю высокого берега реки, воды которой мчались с невероятной скоростью, бурля и брызгая. Ее губы шевелились, силясь перекричать непокорную реку. Лёнька пытался понять, что говорит ему подружка, но слов было не разобрать, а могучий поток воды вдруг внезапно превратился в табун жеребцов, бешено мчащихся на него. Ни увернуться, ни спрятаться от них не было никакой возможности, и он сделал единственно возможное и почти невероятное – подпрыгнул и… полетел. Чтобы двигаться плавнее и крепче цепляться за воздух, приходилось напрягать руки, вытягивая их в стороны и балансируя в потоках налетевшего веселого ветра. Лёнька подымал лицо вверх – и туда же подкидывал его порыв попутного ветра. Опускал – и мальчик мягко планировал к самой земле, где уже промчался ураганом дикий табун и всклоченная бурая земля превратилась в ярко-красную дорожку лучшей атласной ткани, отливающей всеми оттенками коралла. Ему это колышущееся алое море напомнило колонну спортсменов-знаменосцев на первомайской демонстрации, которую он видел однажды в райцентре. Внезапно он стал различать странные знаки посреди этого огромного шелкового багряного поля: они кружились и постепенно складывались в бегущие друг за другом буквы «Г». Одна, вторая, третья, четвертая сливались в крутящееся колесо, а все кроваво-красное полотно неожиданно оказалось огромной свастикой. Лёнька вспомнил, где видел такие флаги – на колонне автомашин, въехавших в их деревню июльским утром вместе с жестокими страшными оккупантами. А гигантское знамя, поколыхавшись под ним, превратилось в широкую безбрежную реку кипящей крови. Мальчишка запрокинул голову и стремительно полетел ввысь к звездам. Яркий калейдоскоп водоворота закрутил его и понес сквозь неведомые миры. Откуда-то издалека он услыхал голос матери:
– Сы-ы-ы-ыно-о-о-ок…
Сон нехотя отпускал его из своих теплых цветных объятий. Мальчишка разлепил глаза и увидел мамку. Вокруг была тишина. Только сейчас он понял, что вагон не движется. Поезд стоял. Акулина прижала его рот ладошкой и прошептала в ухо:
– Сынок, тихо. Слышишь? Поезд стоит. Надо попробовать бежать. Смотри, там сбоку на двери доска совсем плохонькая. Я еще при отправке приметила. Давай ее надавим, и ты пролезешь. Хоть ты сбежишь от этих ворогов.
Она приподнялась и, стараясь ступать как можно тише по шуршащей соломе, прошла к дверям. В сумерках, продолжавших прятать от измученных людей весь ужас, грязь и нечистоты их временного обиталища, мать казалось едва различимой. Присев у края задвинутой двери, женщина старалась оттянуть нижнюю доску, и ей наконец это удалось. С треском и хрустом дерево разломилось, и сквозь образовавшуюся щель внутрь влился яркий солнечный свет. В его длинном ровном луче вились и кружились многочисленные пылинки, оживляя его, подобно потоку расплавленного металла, вытекающего из раскаленной печи после превращения из грубой и некрасивой руды.
Лёнька подкрался к образовавшейся щели и сквозь нее стал разглядывать свободу. Свобода была яркой, солнечной и зеленой. Раскидистые кудрявые вязы закрывали обзор, спрятав в могучей листве всё, что находилось за придорожными посадками. Сориентироваться было невозможно из-за полного отсутствия видимости хоть каких-то строений, людей и указателей. Лёнька протянул руку сквозь выломанную доску, потянулся, но не достал даже до кончиков листьев.
– Мам, не пролезть. Узко. Не получится, – отрицательно помотал головой мальчишка.
– Ну попробуй еще! – не теряя надежды, взмолилась мать.
Он попытался снова протиснуть теперь уже обе руки и хоть как-то расширить щель. Соседние доски трещали, скрипели, гнулись, но не поддавались. Мальчишка уже до крови разодрал локти, но влезть даже такому худенькому девятилетнему пацану в узкое отверстие шириной не более двадцати сантиметров было невозможно.
В это время за усилиями Лёньки наблюдал уже почти весь проснувшийся вагон. Несколько женщин перебрались поближе к образовавшемуся окошку и тщетно пытались оттянуть соседние дощечки. На их горе, лишь одна подгнившая треснутая доска поддалась Акулине. Остальные же твердо и крепко держали людей в плену, не выпуская и не давая ни капли надежды на побег.
– Бабоньки, может, навалимся все дружно? – воскликнула мать Пети и Насти Бацуевых, вцепившись двумя руками в доску. Остальные нехотя двинулись к ней. Однако несколько женщин, не приближаясь, отозвались из темноты: