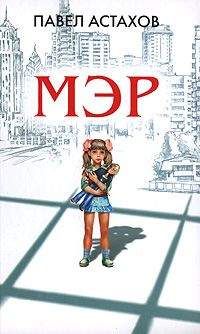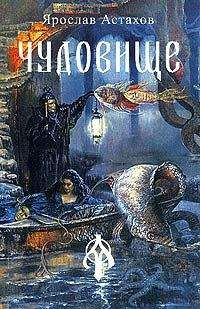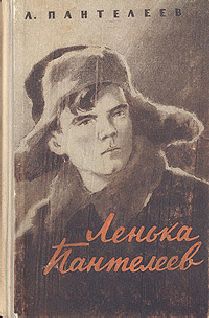Лёнька. Украденное детство - Астахов Павел Алексеевич
Часть II
Осень (Скитания)
Глава девятнадцатая
Крыжовник
Ответственность за доставку в Германию несут комиссии и бюро труда (отделы труда). Транспорты с рабочей силой из бывших русских областей охраняет полиция охраны порядка. Поэтому охранные команды следует затребовать в районных учреждениях полиции охраны порядка… [74]
Среди множества даров матушки-природы есть один забавный малыш, угрожающе колючий и ершистый на вид и необыкновенно ароматный и чудесный на вкус. Похожий на крошечный полосатый арбузик, покрытый тонкими колючками и шипами, опасными на первый взгляд, но безобидными и мягкими при прикосновении, этот огородный житель может украсить любое чаепитие, перевоплотившись с помощью заботливой хозяйки во вкуснейший десерт: варенье, джем, компот, мусс. Отведав его однажды, невозможно забыть прекрасный бодрящий кисло-сладкий вкус: яркий, как родившее его лето, и звонкий, как трель жаворонка жарким солнечным полднем. Его имя таит в себе имя Господа и сокровенную тайну Пришествия и Воскресения. В некоторых немецких диалектах его зовут «кристольбээрэ», или «ягода Христова», а иногда переводят даже как «Христов терн». В русском же языке он берет свои корни от древнеславянского названия «креста», хотя не каждый распознает его под именем «крыж», а потому больше всего похож он на свое польское прозвище krzyżewnik [75]. Густо утыканный колючками куст этой ягоды есть в каждом огороде или палисаднике русского крестьянского двора. Основная задача хозяйки успеть ободрать его до того, как созревшие ягоды осыплются на землю или будут поклеваны налетевшими скворцами, дроздами, свиристелями либо деревенскими мальчишками, которые всё, что не смогут запихать в свои бездонные карманы или за пазухи, могут использовать как снаряды для своих трубок-плевалок, выструганных из пустотелых бузиновых веток или ствольника.
Первое, что увидал Лёнька, вступив на привокзальную брусчатку, – несколько раздавленных и истекших сладким соком ягод крыжовника, сиротливо лежавших под ногами. Лопнувшие полосатые и когда-то пузатые кругляши беспомощно развалились и расплескали свое желеобразное содержимое на железнодорожную площадь, истоптанную башмаками, сапогами, туфлями и тапочками бесконечно спешащих пассажиров. Ранним утром их с матерью и с остальными заключенными фильтрационного лагеря, сидевшими уже неделю в смрадной яме, выгнали на пыльную дорогу, ведущую к станции в сопровождении нескольких конвойных. Никто не думал о том, чтобы сопротивляться или бежать. Это было бессмысленно, да и сил не было, поэтому женщины лишь успокаивали детей, друг друга, но в первую очередь самих себя тем, что «скоро все закончится», «теперь нас освободят», «надо потерпеть». Эти слова и заунывные бормотания слышались со всех сторон, и Лёньке стало казаться, что кошмарный сон, в котором они с матерью случайно оказались, будет длиться вечно. Он попытался потрясти головой и протереть давно немытые, забитые пылью глаза, но видение не проходило, а лишь становилось все отчетливее. Акулина ничего не объясняла сыну, лишь потрепала его по слипшимся волосам и потянула за собой, подгоняемая окриками и пинками лагерных охранников.
Растянувшаяся колонна женщин и ребятишек втягивалась на привокзальную площадь, на которой вовсю хозяйничали разномастные и разношерстные части немецких войск. Подняв голову от завораживающих своим странным рисунком из клякс и брызг разбитых ягод, мальчишка увидел главного, как ему показалось, начальника над всем этим привокзальным хаосом. По крайней мере, так он решил, оценивая габариты, вид и фасон этого крупного, если не сказать огромного, толстого немца, расхаживающего вдоль платформы и отдававшего указания то и дело подбегавшим и козыряющим солдатам.
Толстяк всем своим видом, фигурой и поведением внушал страх, трепет и невольное уважение. Он был обряжен в полевую форму капитана, которая начиналась блестящими, несмотря на пыль и грязь, сапогами и плавно переходила в галифе и заправленный под ремень китель и завершалась малюсенькой пилоткой на его огромной голове. Но главное, что с точки зрения девятилетнего мальчишки было явным признаком власти и могущества, он прижимал, слегка обняв левой рукой, к своему необхватному животу металлическую каску, доверху наполненную крупным крыжовником. Между репликами и короткими рыканьями, издаваемыми этим немецким начальником, он отправлял ловким броском себе в пасть несколько ягод и с хрустом разгрызал их, брызгая не то соком, не то слюной. Ловкость его была сомнительной, а потому траекторию его передвижений можно было определить по упавшим и раздавленным его начищенными offizier Stiefel [76] ягодам.
Капитан остановился и разглядывал столпившихся женщин с детьми. Они заполнили половину площади и пугливо сбились в серую дрожащую стайку, оцепленную с трех сторон вооруженными конвоирами, а с четвертой стороны отсеченными железнодорожными путями, по которым медленно двигались маневровые локомотивы, то втягивая, то выталкивая составы. Очередной длинный состав с наглухо закрытыми деревянными вагонами подтягивался к вокзалу. Немцу, обладавшему огромной головой, компенсирующей полное отсутствие шеи, чтобы посмотреть назад, пришлось повернуться всей своей массивной тушей. Он гаркнул куда-то по направлению к темнеющему входу в вокзал:
– Ханс, комм цу мир! [77]
На этот крик моментально выбежал худой прыщавый фельдфебель. Услужливо согнувшись, он приблизился к начальнику. Тот ворчливо и нервно что-то втолковывал ему, после чего последний откашлялся и обратился к пригнанным людям:
– Ахтунг! Внимание! Все дамен и киндер сейчас будут ехать на этот вагон в Великий Германия. Вам гарантируют жизнь, работа и еда. Через некоторый минутен начинает погрузка. Всем собраться и готовиться.
– Стойте! Стойте! – Неожиданно со стороны маневрового локомотива показалась фигура, одетая в парадную летнюю форму с петлицами на кителе и красной звездой на белой фуражке. Пожилой усатый и седой железнодорожник с жезлом в руке двигался к жирному немцу, пытаясь объяснить что-то:
– Стойте! Нельзя в эти вагоны сажать женщин. Это же товарняк. Сейчас надо перегнать их на восьмой, а сюда поставим четыре плацкарата и два купейных. Женщины же, дети же…
– Вас ист дас? [78] – грозно нахмурился боров и ткнул сарделькообразным пальцем в грудь подошедшего служителя.
Фельдфебель как мог перевел то, что выкрикивал служитель. Капитан нахмурился еще сильнее и рыкнул что-то угрожающее. Помощник сделал шаг к русскому:
– Иван, отойти в сторона! Не мешать погрузка. Твой дело нет. Это специальный вагон. Не мешать! А то расстрелять.
Для полной убедительности фельдфебель сложил пальцы пистолетиком и два раза ткнул в седой висок железнодорожника. Тот отмахнулся от руки немца жезлом и снова закричал на капитана:
– Нельзя! Нельзя туда людей. Не пассажирский это. Ошибка! Отправлять надо эти вагоны. Состав пассажирский перегонять надо с запасных. Сейчас скомандую. Я ж здесь почитай пятьдесят годков служу. Царя-батюшку отправлял, совнаркомовцев встречал и провожал, бронепоезд товарища Ворошилова пропускал. Меня всяк знает на дороге. Нельзя, нельзя детишек в эти вагоны. В этих только что коров везли. Там грязно. Надо подать пассажирские.
Не дожидаясь ответа, он вдруг достал из нагрудного кармана блестящий металлический свисток и что есть силы дунул в него. От неожиданно вылетевшей пронзительной трели капитан-немец дернулся, махнул руками, пытаясь закрыть свои чувствительные розовые мясистые уши и… выронил каску с ягодами крыжовника, которые, словно живые мохнатые колючие шарики, запрыгали, заскакали в разные стороны. Потеряв свою съестную добычу, оглушенный продолжавшим отчаянно свистеть ополоумевшим железнодорожником, немецкий начальник станции рассвирепел и, выдернув из поясной кобуры «Вальтер» [79], дважды нажал на спусковой крючок, упершись в грудь железнодорожника, обтянутую белым парадным сукном. Два резких толчка откинули старика назад, и, сделав по инерции еще три шага, он повалился прямо на раскаленные от жары и солнца рельсы. Вытекающая из разорванной раны на мундире кровь струйкой сбегала на блестящий металл и тут же запекалась в темную неровную корку.