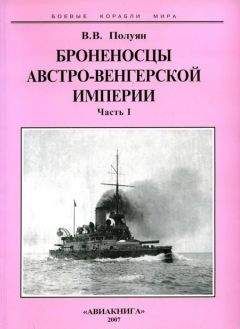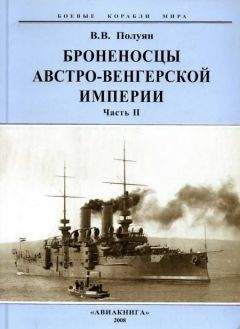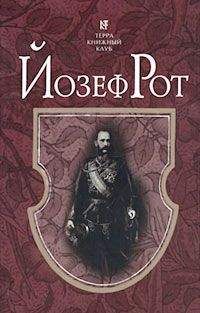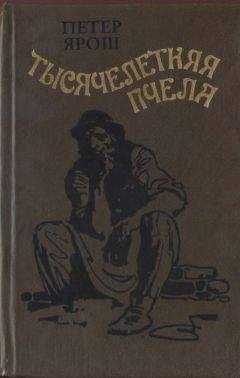Яромир Йон - Вечера на соломенном тюфяке (с иллюстрациями)
— Ла-ла-ла-ла…
Героическая песнь гусляра нагоняет тоску. Даже у самых бесчувственных на дне души скрывается потребность любви.
Балканские проститутки, девицы из Белграда, наводнившие маленькие южносербские городки и деревни, привычны к их бурным излияниям, вздохам и детским, безудержным слезам. С поистине женским тактом они проявят деликатность, а то и сами расплачутся — нежные славянские голубки, и жаркие их объятия на минуту дадут ощущение домашнего уюта и человеческого счастья.
Тоска одолевает шатающихся по городу чешских солдат, это стадо без пастыря.
В холщовом мешочке у сердца, рядом с деньгами, они хранят фотографии возлюбленной, матери или жены с ребенком, на которых так часто смотрели холодными сербскими ночами, лежа на кукурузной соломе.
И все же они спешили войти в Призрен, полные надежд, что здесь закончатся их скитания.
Еще издали завидев этот город, раскинувшийся на холмах, подобно Вифлеему — бывало, к рождеству они лепили точно такой же для своих детишек, — солдаты ускоряли шаг, подгоняли коней и мулов.
А те, кто подходил к городу ночью, дивились зажженным на небосводе пылающим лампадам звезд, Сириусу, огненному светилу из созвездия Большого Пса, которое горит над этим Вифлеемом, точно малое солнце, светясь волшебным синим, мистическим сиянием.
Умытые, почистившиеся, переодетые, бродят они теперь по городским улицам.
Ищут младенца Христа, родившегося в хлеву на соломе.
С какой радостью они спели бы ему песенку, сыграли бы на губной гармошке, а может, нашелся бы среди них и волынщик.
Солдаты жаждут искупления, ибо ведь и они — те долготерпеливые агнцы, чьей кровью мир был очищен от скверны.
* * *Я сижу в кофейне.
Она сбита из досок, единственный ее зал битком набит солдатами.
На стенах вкривь и вкось повешены плакаты: предостережения командования — «остерегайся шпионов», призывы сдать оружие.
Рядом старый рекламный плакат немецкой фабрики сельскохозяйственного инвентаря.
Угол возле стойки облеплен изображениями девичьих головок из «Гартенлаубе».
Хозяин, шаркая мягкими чувяками, несет мне кофейник с кофе по-турецки.
Ноги отказываются ему служить. Подбородок трясется.
Я оглядываю кофейню, и мне кажется, будто когда‑то я здесь уже был.
Ну, конечно!
Это же кафана [110] чичи [111] Йордана из рассказа Стевана Сремаца!
Та же кафана. Тот же чича Йордан. Вот я вижу, как старик Йордан обслуживает своих неохотно раскошеливающихся посетителей. Наш хозяин тоже стоит за стойкой, наливает, трясет головой, ворчит.
Какая у него жизнь?
Такая же, наверное, как у Йордана.
Крестьянствовал где‑то в Ипецкой долине. Бог не оставил милостями набожного, прилежного хозяина — стадо его множилось. Потом умерла жена, дети разбрелись по всему свету; он продал халупу, поле и открыл в Призрене кафану.
Но в городе немало пройдох, умеющих ловко выманить у старика последние гроши.
Есть и конкуренция. Кафаны с устаревшей вычурной мебелью из Вены, с зеркалами и женской прислугой.
Однако у старика можно вкусно поесть, и — прямо скажем — кофе он готовит отменный, а стоит это удовольствие всего лишь три австрийских крейцара. Слышал я, хвалят также его вино, да и ракию он подает лютую, неразбавленную.
Все, кому не лень, злоупотребляют его добротой и порядочностью.
А теперь должники рассеялись по всей Европе. И в лагерях военнопленных, где‑нибудь в Йозефове, Броумове или Маутхаузене с благодарностью вспоминают — ох, уж эти негодники! — его добрый харч, кофе и лютую ракию.
Валяясь на швабских топчанах, вспоминают должники дедову ракию трбоболю [112] — от резей в животе и ракию главоболю — от головной боли.
Бог их покарал!
Но старик все равно молится за них. В эти тяжкие времена его вера в справедливость божью только еще больше укрепилась.
Он совершил паломничество в святые Дечаны, был в прекрасном Топольском храме и теперь мечтает об одном: поскорей бы кончилась эта война, чтобы он мог наконец стать хаджилуком [113].
Главное, пусть воротятся все эти буйные головушки, эти момцы, да заплатят долги — и тогда он пойдет в Иерусалим, ибо за всю свою жизнь он никого не обманул и ко всем бывал справедлив.
Я смотрю на стойку, где рядами выставлены бутылки с водкой, ромом и сливовицей. Жаль, что нет на них надписей, как у чичи Йордана: «Ракия, снимающая с сердца тяжесть», «Ракия от забот», «Ракия против боли в пупке».
Сижу, попиваю свой кофе, гляжу в окно.
Я ничего не знаю о здешнем крае. Ничему меня не научили. И сам я ничему не научился.
Смотрю вокруг почти незрячими глазами. Вижу жизнь лишь во внешних ее проявлениях. Поверхность, очертания, плоскости, краски, движения.
Я чех и как-никак иностранец.
А так хотелось бы, чтобы исчезли с глаз эти бельма, хотелось бы обрести зрение, позволяющее увидеть подлинную действительность, нагую правду сербского человека.
Сербия — это кладбище!
Мне знакомы эти сербские кладбища, неубранные могильные холмики со свечками в стеклянных банках, с грубыми, там и сям покосившимися крестами. Ветер развевает на них белые ленты.
По всей Сербии кладбища у дорог издалека машут всаднику своими лентами, словно бы маня его, и кажется, будто это слетелись на парламентское заседание порхающие бабочки-боярышницы.
На пути из Кралева в Рашку, на бесконечном плоскогорье, погруженном в густую вечернюю тень, на равнине, покрытой белыми известковыми глыбами, я видел, как спускалась с гор погребальная процессия.
Она была еще далеко. Я разглядел старичка с крестом, четверых мужчин, несших гроб, черные тени женщин и детей.
Подобно призракам, они медленно двигались к кладбищу.
Сижу верхом на неподвижно застывшем жеребце, слышу гул горного потока и прикрываю веки, пряча глаза от раскаленного неба, желтого как сера.
Процессия ступила на кладбище и застыла в скорбном оцепенении, точно неподвижная черная масса.
Из-за горы вынырнула артиллерийская колонна прусского альпийского корпуса.
Помахивая хлыстиками, артиллеристы пели:
In einem kühlen Grunde
geht ein Mühlenrad…
Mein Liebchen ist verschwunden,
die ich geliebt hab'…[114]
Черная масса не шелохнулась.
Прусские канониры ехали с невообразимым грохотом.
Кто‑то выстрелил из винтовки в сторону кладбища. Просто так, от скуки.
Я видел, как упал гроб, как бросились врассыпную крошечные черные фигурки.
Кладбище опустело.
Только ленты трепетали, словно испуганные бабочки.
И гудела река.
Яростно гудела.
* * *По вечерам Призрен утопает в волшебном лунном сиянии.
На улочках, среди фантастических зданий — мертво, железные ворота наглухо заперты средневековыми замками.
В тени вырисовываются очертания балконов с решетчатыми перилами из тонких планок.
Где‑то ухают совы.
Тщетно ищешь взглядом огонек, проблеск света, жизни…
Дома, лачуги, дворы, конюшни, крыши, слуховые окна — все замерло в мертвой вифлеемской тиши.
Я поднимаюсь по склону нагорья.
Унылые плоские крыши озарены луной, дома отбрасывают фиолетовые тени, которые сливаются в сплошное густо-синее облако, а выше его — лишь старая турецкая крепость, выстроенная на скале.
Вифлеем спит.
Око луны в ужасе широко распахнуло свои лучистые ресницы.
Но звезды мигают разноцветными огоньками. Они смеются.
И продолжали бы смеяться, даже если бы весь мир превратился в руины!
Такие уж они равнодушные.
Призрен, март 1916 года.
Чудные дела
Расскажу я вам, братцы, про чудные дела, и кто сумеет их объяснить, получит головку сыру и ломоть домашнего хлеба.
* * *Первая непонятная история.
Один сапожник из наших краев, ловкач и хитрюга — не приведи господь, прежде он имел несколько корцев надела да корову, тот самый, про которого я уже рассказывал, как наехала в казармы комиссия из Берлина, а у одного прусского маршала возьми да и вылети из глаза монокль, и прямо в сапожный вар, — так вот, этот сапожник долго увиливал от военной службы, пока все-таки не оказался в гарнизоне, и вот пришел ему срок выезжать с маршевой ротой.
Уж он выкручивался, как умеют одни проныры сапожники. И верно — два раза ему это удалось, оставался, потом гулял в трактире.
А как настало ему время идти в третий раз — приуныл.
Я и говорю:
— Ничего не попишешь, милый Вацлав, все там будем, а ты попробуй еще разок, — может, опять выкрутишься…
И что бы вы думали — выкрутился! Раз в субботу сидим мы все в трактире «У града эфиопского», он и говорит фельдфебелевой жене: