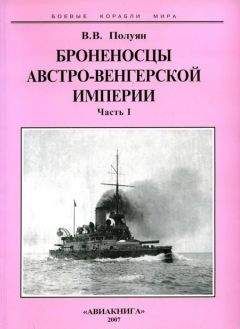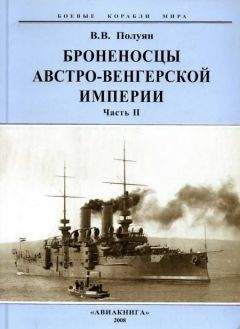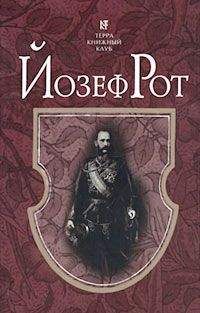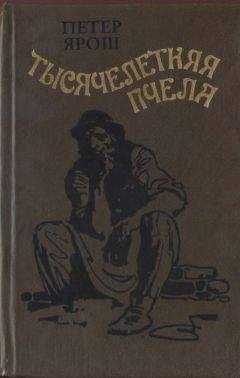Яромир Йон - Вечера на соломенном тюфяке (с иллюстрациями)
Видать, выпил он тифозной воды. Тут бы в самый раз рому. По литру в день. Или бы молочка от бешеной коровки. А все, верно, оттого, что съел он на ужин подлую тварь — селедку и потом напился воды. После этой рыбы положено пропустить кружечку хорошо выдержанного пива. Лучше всего старое будейовицкое или же великопоповицкое. И ничего тебе не сделается. А воды напьешься — и враз в животе революция!
Потом Чурила рассказывал мне: «Я уж думал, Вена, пришел мой последний час».
Лежит он и не шелохнется.
Только и думает: «Мать пресвятая богородица, хоть бы до койки добраться! Буфетчица заварит чаю, накрошу в него хлебца, завернусь потеплей, и так‑то славно мне будет!»
А русские знай накладывают песок и‑дело известное — не больно спешат.
Наложили доверху, четверо парней ухватились за дышло, остальные за борта: «Гей-ух!» — и тележка на дороге.
Стоят — ждут.
Ждут, значит, смотрят, где ваха [105], Чурила то есть. А его не видать.
Отправились двое будить Вейпупека.
— Пан комендант, пан… Гей-ух!
Тот лежит — ни с места, только глаза грустно так приоткрыл и закрыл снова.
Что тут станешь делать?
Посовещались они, самый старший, плечистый такой русский фельдфебель, и предлагает: пошлем, мол, в город за санитарной машиной.
Да только никто идти не соглашается — схватят ведь и сразу в каталажку. Дело известное, пленный без стражи шагу шагнуть не смеет.
Остальные шумят: пора, мол, ехать, скоро полдень, есть охота, коли, мол, все пойдем, скопом, да с тележкой, так и не заарестуют. А встретим какого начальника — расскажем, где оставили своего ваху. Чурилу то есть.
Но русский фельдфебель без стражи идти не захотел.
Подняли тогда москали Чурилу и — гей-ух! — взвалили его русскому фельдфебелю на спину.
Двинулись.
Впереди этот фельдфебель с Вейлупеком на спине. Чурила держится за его шею, русак подсунул руки ему под зад — и порядок!
За ними тарахтела груженная с верхом тележка.
Дальше шел один татарин и осторожно нес Вейлупексву винтовку. Легче бы перебросить ее через плечо — да нельзя, пленным не положено.
А ведь возможно даже, что это была как раз его, русская винтовка.
Кто знает?
Подошли к городу.
Сколько тут мальчишек сбежалось с кирпичных заводов, сколько школяров, девчат да солдат, женщин и штатских!
Пацанье подняло галдеж. Разозлился москаль-фельдфебель, скинул Чурилу со спины, — гей-ух! — забросил его на тележку с песком и давай разгонять сорванцов.
На Литомержицкую площадь прибыли точнехонько, когда отзванивало полдень.
Народу полно — смена караула. Из казарм, из канцелярий высыпали офицеры и все высокие чины.
А тут и москали показались.
Толпа за ними валом валит, такого скопища людей в городишке еще не видывали.
Очнулся Чурила, протер глаза, подивился — и снова лег.
Какой‑то лейтенант послал за солдатами.
Что потом было этому Вейлупеку?
А ничего.
В больницу его положили.
Кадет говорил, будто полковник смеялся, когда ему все рассказали.
И вышла Чуриле одна только выгода.
Балканский вифлеем
О пророк, поелику бог установил каждому его место, следует ли уповать на это и пренебрегать домом своим?
И ответил пророк: «Нет, не следует, ибо лишь блаженные духом будут удостоены добрых деяний, тем же, кому бог не даровал блаженства, уготованы злодеяния».
В Македонии пестрая смесь народностей, придерживающихся трех различных вероисповеданий.
Когда в феврале 1916 года я добрался до Призрена, его площади и извилистые улочки были забиты войсками. Наряду с множеством местных наречий, здесь звучали все языки габсбургской монархии.
Взяли город болгары, и теперь по улицам проходил их полковой оркестр.
Но четкого воинского шага ты не услышишь — на музыкантах мягкие опанки.
Наши торговали всем, что у них было. За добротно подкованные, тяжело громыхающие ботинки болгарин отдаст все свои сбережения.
В пестрой гудящей толпе, в смешении языков, в массе людей, растекшейся по улочкам, по обе стороны которых тянутся увешанные флажками ярмарочные лавчонки, медленно движется то зеленый форменный мундир, то плоский блин австрийской фуражки, то каска немецкого пехотинца, то монокль и шрам прусского офицера.
Торгаш на торгаше!
Перевернутые доски — и на них грудки тонко нарезанного македонского табака.
Караваны лошаков.
Вареные и невареные яйца, секср за штуку, яблонецкий товар, орехи, конфеты, изюм, лимоны.
Цепочки, ремни, опанки, турецкие шали, войлочные штаны и кацавейки, носовые платки с изображением битвы под Плевно. Кнопки, ржавые пряжки, броши, украшенные полумесяцем табакерки, албанские складные ножи с роговыми черенками; по земле разостланы невыделанные шкуры, волчий мех, сбруя.
И на почетном месте — бутылки с ромом.
В городе есть и мастерские, седельные и ткацкие. У реки, над которой повисли старинные турецкие мосты, протянулась улица кузнецов, их мехи протяжно ревут. Сами кузнецы, черные, покрытые потом парни, закончив работу, отбрасывают в сторону молоты и крутят цигарки.
Уличные кухари сидят прямо на мостовой, перед ними котелки с раскаленным древесным углем. Они жарят на вертеле продолговатые куски мяса, переворачивают его крючками, кричат, ругаются и плюются.
Пекари в низеньких хибарках мечут на прилавки, выходящие прямо на улицу, еще теплые хлебы, и солдаты с аппетитом откусывают от каравая, кляня хрустящий на зубах песок и бранясь, что им недодали сдачи — несколько металлических кружочков с турецкими каракулями, латунных, покоробленных, дырявых — словом, ни к черту не годных.
В лавчонках на ковриках сидят ювелиры, постукивают по серебряным пластинкам и проволочкам, искусно скручивая их в спирали, кружки, зигзагообразные палочки и шарики. В серебряные браслеты филигранной работы они вставляют позолоченные турецкие монетки, в скрученные из проволочки кольца — грубые камни. Если войдешь, они раскроют обитый железом сундук и покажут тебе старинные изделия: металлические перстни работы народных мастеров, древние богатырские щиты, серебряные крышки от горшков с изречениями из Корана, тканное золотом церковное облачение, халаты, выложенные жемчугом пистолеты и ханджары с костяными рукоятками.
Парикмахеры в цирюльнях с клочьями витиевато расписанных обоев по стенам, с единственным подслеповатым зеркалом и олеографией султана, без устали стригут грубую щетину болгарских крестьян, каштановые волосы бледнолицых австрияков-ополченцев, бычьи шеи плечистых баварцев в чистых серых мундирах. Их подмастерья в фесках, с постоянно висящей под носом каплей и грязными руками, не успевают намыливать бугристые физиономии, пена так и брызжет во все стороны.
Возле мечети женщины продают свои рукоделия.
Площадь, мощенная белым булыжником, напоминающим человеческие черепа, вся в лужах навозной жижи, озарена слепящим солнцем.
У грязных стен мечети, по закуткам у домов сидят старухи с албанских гор.
На стенах развешаны толстые шерстяные чулки с красными пятками — за крону ггара, газовые шали, развевающиеся на ветру, точно веселые флаги, тяжелые куртки и плащи, шитые зеленым и красным бархатом, и самые тонкие изделия — розовые тюлевые косыночки с вышитым в уголке цветком.
Женщины в роговых очках вяжут шерстяные носки и рукавицы, и речь их не прерывается ни на секунду.
Здесь ты встретишь глазеющего по сторонам пехотинца с широкими скулами, характерными для жителей Чешско-Моравской возвышенности близ Скутчи, Камениц и Полички, услышишь пражский жаргон и венский диалект, болгарскую брань, арнаутское пришепетыванье, венгерскую скороговорку, мягкую словенскую, напевную сербскую или шипящую польскую речь.
Солдаты покупают для своих возлюбленных косынки с золотой розочкой.
А венским и будапештским дамам наверняка придутся по вкусу короткие восточные жакеты в талию, которые будут потом красоваться на стенах их салонов под сербской винтовкой, жестяной флягой и скрещенными саблями.
По кривым улочкам с домами, похожими на осиные гнезда, поставленными где и как попало, катятся арбы, в которых сидят турки-помещики с угреватыми носами.
Спешат куда‑то красивые рослые албанцы, бронзовые удальцы с вкрадчивыми, кошачьими движениями. Они насмешливо проносят над толпой свои орлиные носы и вскидывают головы, точно хотят заклевать всю эту снующую вокруг мелюзгу.
Не зря остановился австрийский ополченец, изнуренный десятилетиями труда в сапожной мастерской или у ткацкого станка, опустив и без того сутулые плечи, смотрит вслед этим молодцам, словно бы явившимся из самого рая.
Да, мало тут забривали в солдаты!