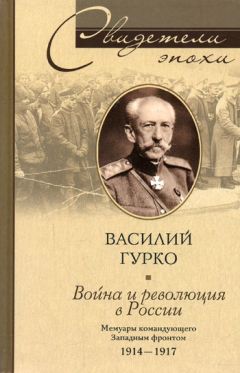Анатолий Медников - Открытый счет
— Смотри, Темпельгоф! — сказал Мунд.
Они стояли перед продолговатым зданием воздушного вокзала в северо-западной части Берлина. Лётное поле — огромное серое зеркало асфальта — сверкало в лучах солнца.
Эйлер вспомнил, как однажды до войны он летел отсюда в Мюнхен, где жила его тётка, и ему казалось, что тяжело нагруженный ревущий моторами „кондор“ так и не оторвётся от бетонной полосы, врежется своим тупым носом в окружающие аэродром дома.
Но самолёт взлетел и сделал круг над Берлином, который с высоты казался игрушечной площадкой, составленной детьми из кубиков, цилиндров, изогнутых пластинок мостов, серых полосок улиц и голубых шнурков реки Шпрее и её каналов.
Эйлер мысленно представил себе, каким бы он сейчас увидел с высоты разбомблённый, разрушенный город, и ему стало тягостно на сердце. Унылое настроение усиливалось при взгляде и на совершенно пустынное поле Темпельгофа, где не было ни одного самолёта, бензозаправщика, трапа или даже какой-нибудь грузовой тележки. Ничего!
— Сюда достаёт уже русская артиллерия, — пояснил Мунд, уловив, должно быть, растерянный взгляд Эйлера. — Бон зенитки, видишь?
Замаскированные сетками длинноствольные орудия торчали около ангаров, складов и багажной стойки, где раньше выдавали пассажирам чемоданы, а сейчас зенитчики подтаскивали к орудиям ящики со снарядами.
— Они не сядут здесь, — вслух подумал Эйлер.
— Сядут, но в последний раз. Аэродром переносится на Шарлоттенбургершоссе. Знаешь, где это? — спросил Мунд.
— Ещё бы! — вздохнул Эйлер.
Он вспомнил широкую магистраль со старыми клёнами и липами, с высокими фонарями и украшающий эту улицу памятник с бронзовым орлом, парящим в воздухе в честь победы немцев над Францией. Что ж там сейчас — вырывают деревья, фонари, расчищают взлётную полосу?! И это вблизи Бранденбургских ворот, в каких-нибудь пятистах метрах от Имперской канцелярии.
— Дожили! — выдохнул Эйлер.
— Что ты говоришь? — спросил Мунд.
— Ничего. Вон летят, слышите, господин штурмбанфюрер, я их вижу, — крикнул Эйлер, показывая на небо, где над Темпельгофом показались три больших двухмоторных моноплана, похожие на колоссальных летящих рыб с широкими плавниками-крыльями. Эйлер ещё до войны видел на парадах такие самолёты, они предназначались для перевозки парашютистов-десантников.
Наверно, русские не заметили самолёты, потому что дали им приземлиться, и только когда из открывшихся широких дверей, прыгая без трапов, на землю начали вываливаться люди в чёрных морских шинелях — над Темпельгофом разорвалось несколько бризантных снарядов. Потом ударили дальнобойные пушки, кромсая асфальтовое зеркало, воздух над лётным полем заволокло сизым дымом, и сквозь этот дым и гарь тёмные фигурки, низко согнувшись, поспешно перебегали к зданию аэровокзала.
— Проскочили, молодцы! — воскликнул Мунд. — Мы направимся с ними в Рейхсканцелярию, слышишь, Эйлер. Ты не отставай от меня, я пойду в голове колонны.
— Слушаюсь, — сказал Эйлер.
Он подошёл к прибывшим. Это были молодые моряки, в большинстве своём ещё юноши лет шестнадцати — восемнадцати с крепкими, спортивными фигурами, с раскрасневшимися после бега и пережитого волнения лицами. Три роты курсантов морской пехоты в городе Росток по приказу гроссадмирала Деница прибыли в Берлин. Мунд сказал, что из них будет сформирован особый батальон СС и моряков примет сам Гитлер.
Всю эту последнюю неделю, попав в Берлин, Эйлер жил со странным, неослабевающим чувством удивления от того, как переменилась его судьба. Он был ошеломлён той цепочкой событий, которая начала свиваться ещё на Одере, где он валялся целый месяц в траншеях и где, не совладав с собою, он прокричал на ухо гросс-адмиралу Деницу: „Не надо открывать огонь, там дети!“
Дениц уехал в Берлин, а его, Эйлера, на следующий день убрали с передовой, как солдата, чьё моральное состояние не внушало доверия. Его перевели в город Шведт и зачислили рядовым в артиллерийскую прислугу при зенитной батарее, стоявшей на площади у ратуши.
Но нет худа без добра, и в городе всё же лучше, чем в траншее. Правда, и здесь большей частью Эйлер спал прямо в окопе, отрытом около орудий, но всё же иногда и в доме, а если не дежурил, то при бомбёжке мог спуститься в убежище под ратушей.
Там-то его однажды и заприметил Мунд, подошёл, напомнил о гроссадмирале и при этом смотрел испытующе, сверля Эйлера буравчиками тёмных и сухих зрачков. Наверно, ждал, что Эйлер смутится при одном воспоминании о своей слабости, но Эйлер выдержал этот безмолвный натиск с равнодушием опустошённой и истерзанной страданиями души.
Понравилось это Мунду или нет, Эйлеру было безразлично. Он вяло отвечал на вопросы штурмбанфюрера. Да, был до войны электромонтёром и после её начала долгое время имел броню, потому что компания изготовляла оборудование к какому-то секретному оружию. Но в начале сорок четвёртого его разбронировали и отправили в армию. Всегда увлекался только электротехникой, от политики старался держаться подальше…
— Подальше от политики — это ошибка! — резко прервал его Мунд. — Хуже того, это глупость! Политика — воздух, которым дышит великая нация. Скажи, пожалуйста, ты знаешь у нас такое местечко, где бы не звучала политика?
— Наверно, нет, — подумав, ответил Эйлер.
Конечно, он знал не так уж много: завод, армию, в других кругах он не вращался, но в словах этого штурмбанфюрера чувствовалась уверенность, что так оно и есть.
— Фюрер говорит: „Кто не со мной, тот против меня“. И я тебя спрашиваю, Эйлер, ты с кем?
Вопрос был поставлен так резко, что исключал какие-либо варианты ответа, кроме одного. Да и этого Мунд не стал дожидаться, показал Эйлеру спину, отойдя к столу в центре бомбоубежища, откуда и начал свою речь.
Он говорил о близкой победе. Страсть, с которой Мунд произносил свои заклинания, и вызванное ею воодушевление юнцов из фольксштурма, а главное, страх Эйлера за свою семью заставляли его вместе с другими кричать в подвале: „Хайль!“
Прошла неделя. Командир батареи сказал, чтобы Эйлер явился в ратушу к штурмбанфюреру.
Эйлер спокойно направился к ратуше, ни на что хорошее не надеясь, ничего плохого не страшась. Но оказалось всё же, что штурмбанфюрер удивил Эйлера.
— Я просмотрел твоё личное дело, — сказал Мунд, — биография сравнительно чистая, ты неплохой немец.
Эйлер молча ждал, что же штурмбанфюрер скажет дальше.
— У тебя в Берлине живёт тётка, у неё продуктовый магазин. Её зовут Эльза Тоска. Странно, не немецкая фамилия. Отчего это?
— По мужу. У мужа была итальянская кровь. Двадцать пять процентов.
— Ага, двадцать пять процентов, — повторил Мунд, — процент не очень большой.
— Она раньше жила в Мюнхене, а перед самой войной купила часть дома в Берлине, вблизи Силезского вокзала, магазин небольшой — овощи, фрукты, — оживившись, рассказывал Эйлер, которому приятно было вспомнить о тётке, толстой, доброй женщине, потерявшей мужа ещё в первую мировую войну. Эйлер мальчиком частенько гостил у неё.
— Магазин сохранился, не разбомбили?
— Ещё месяц назад она писала мне, что дом невредим. Но сейчас, — Эйлер развёл руками, — и русские и американцы бомбят Берлин каждую ночь. Тётка писала, целые кварталы истолкли в каменную муку. Они не вылезают из бомбоубежища…
— Ладно, — прервал его Мунд, — мы им — всем врагам рейха — отомстим за нашу столицу. Вот что, ефрейтор, слушай меня внимательно: фюрер издал приказ, объявляющий все города между Одером и Берлином „крепостями“. Позаботиться об их несокрушимости теперь должны военные. Мы — эсэсовцы — здесь своё дело сделали. Меня вызывают в Берлин.
Эйлер кивнул, не понимая, зачем штурмбанфюрер говорит всё это ему.
— Я беру тебя с собой, — изрёк Мунд тоном приказа, — мне нужен человек для охраны. Беру с собою, хотя ты и подал солдатам унижающий немца пример малодушия. Ты понимаешь, конечно, что я мог выбрать эсэсовца, а не беспартийного, но, надеюсь, всё же честного немца. Возможно, мы остановимся у твоей тётки, если даже магазин разбомбили, но остались же, чёрт побери, у неё в подвалах какие-то припасы. Нам это не повредит, в Берлине тяжёлое положение с продовольствием. Мы, национал-социалисты, именно сейчас должны быть тверды, как сталь Круппа, нам не нужно никакое сострадание. Я имею в виду этот самый эпизод на Одере. Только не размягчайся, Эйлер, только не размягчайся. Война — тяжёлая штука!
Эйлер не возражал. Поездка в Берлин от линии фронта вполне его устраивала. Какой фронтовик, просидевший год в траншеях и видящий всегда перед собою лишь малую толику земли, не шире сектора обстрела его пулемёта или миномёта, простой солдат без карт, не захотел бы побывать там, где нажимаются кнопки главной машины войны? Она разболталась, скрипела и стонала всеми своими болтами, но ещё двигалась, дышала и каждый день, час и минуту могла смолоть жизнь ефрейтора Эйлера и тысяч людей, подобных ему.