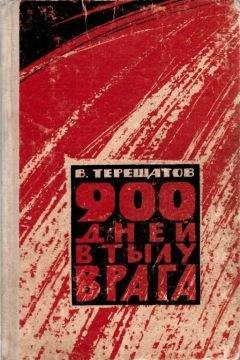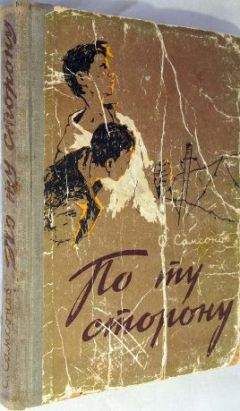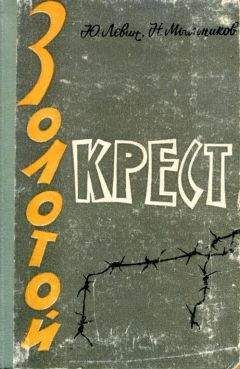Ян Лысаковский - Партизаны
— Что-то у вас слабовато обстоит дело с конспирацией, — заметил Матеуш.
Метек опустил глаза, он предпочитал не смотреть на отца. Не знал, что говорить, и вообще не пришел в себя после всего услышанного.
Потом немного поговорили о домашних будничных делах, и Юзеф стал прощаться. Он теперь жил с Дорогой как с женой. После его ухода отец начал что-то мастерить, а Метек принялся за домашние дела. Нарубил дров, убрал мусор, тщательно подмел. Он спешил, так как через час должен был быть у Крогульца. Но когда пришло время уходить, он подошел к отцу и вопросительно посмотрел на него. Тот сидел угрюмый.
— Идешь? — спросил он.
— Да.
Молчание затягивалось. Казалось, ни один из них не хочет сделать первого шага.
— Чего ждешь? — спросил наконец отец. — Ведь ты должен идти.
— Должен, — подтвердил сын.
— Иди, но только… — Старый Коваль склонил голову над работой, не докончив фразы.
— Да, папа, понимаю, — выдавил из себя Метек.
Во взволнованном тоне отца сын не только почувствовал просьбу беречь себя, но, казалось, отец говорил: ничего нельзя изменить, никого нельзя уберечь от опасности… Метек, пожалуй, впервые подумал о том, что отцу тяжело. Сам голодает, а лучшие куски подкладывает ему. А ведь он много трудится. Хозяин мастерских, где работает отец, намного увеличил рабочий день. Пользуется, скотина, обстановкой. Кроме того, отец по вечерам подрабатывает. А он, Метек, после работы не помогает ему, занимается своими делами. Но, с другой стороны, в подпольной организации строгая дисциплина. Ведь не скажешь сержанту, что мыл посуду или готовил ужин.
* * *Только в полях за Любавкой Метек теперь чувствовал себя человеком. Враг — его тут не было — уходил в сферу теории, приходило ощущение свободы. Поэтому так мучительны были возвращения в город. На дороге, ведущей от моста через реку к рынку, стояли жандармы. Они проверяли лишь некоторых, но каждый чувствовал на себе их острые, словно ощупывающие, взгляды и знал, что его жизнь зависит исключительно от этой скотины в стальном шлеме, которой может не понравиться взгляд, или то, что ему не слишком быстро уступили дорогу на тротуаре, или просто оттопыренный карман…
От моста начинался другой мир: школа, занятая под полицейскую казарму, учреждения с немецкими названиями, плакаты на стенах, патрули, немецкие солдаты, чужая, острая и твердая, речь… И помимо воли возникало чувство вины за то, что так мало еще сделал. Что значат их сборы? Разве немцы их боятся? Потом мастерская, одна и та же болтовня его коллег, та же злоба Бычевского. Хозяин тяжело переживал оккупацию, хотя его дела шли неплохо. Он боялся немцев. И от страха пил. Попивали и мастера и подмастерья. Только участие в подпольной организации давало Метеку чувство некоторой уверенности в себе.
А вообще, хорошо, что он перешел к сержанту. У Лонгина Метек чувствовал себя не лучшим образом.
Другие ребята в основном были выходцами из так называемых хороших семей. Интеллигенты… Им всегда было о чем поговорить. Об общих знакомых, о девушках, о книжках, об учебе на подпольных курсах. Он должен был очень внимательно следить за каждым своим словом, поскольку стоило ему только ошибиться, как Лонгин тут же делал забавную мину, а остальные насмешливо улыбались.
С Крогульцем иначе. Сам он говорит резко, часто даже строго, но так, что человек чувствует к нему симпатию. А главное — все для него равны. Прежде всего он ценит старание и умение.
Временами Метек думал о том, как удивительно война все перепутала в их семье. Раньше жили все вместе, за исключением Антека. Однако постоянно о нем говорили. Отец не замыкался в себе. Юзеф не рвался из дому. Иногда, правда, говорили, что парни когда-нибудь заведут свои семьи, будут жить отдельно. Но Метек не мог себе этого представить. А теперь… Антек ушел из дому, и о нем нет вестей. Осенью тридцать девятого года многие беженцы, которых судьба загнала далеко на восток, возвращались обратно. Однако никто из них Антека не видел. Метек очень о нем тосковал. Он всегда восхищался своим старшим братом. Он видел также, с каким уважением относится к нему отец. Метек, стремясь найти какое-нибудь успокоение, рассказал Рысю о своей семье, об Антеке. Делился своими переживаниями и с другими. И вдруг стал замечать, что товарищи смотрят на него несколько странно. Лонгин же однажды недвусмысленно высказался о так называемых поляках, которые служат большевикам, врагам. Дома же отец упорно повторял, что Советы не являются врагами. В его словах было много веры, но она не рассеивала сомнений; Юзеф же отмалчивался.
Метек никак не мог разобраться в событиях этого грозного, непонятного мира… В такие минуты он успокаивал себя тем, что выбрал единственно правильный путь: сегодня он должен быть прежде всего хорошим солдатом. И будет бороться. А со временем… Да, а со временем выяснится, кто прав.
* * *Вид у сержанта был озабоченный. Он сразу же сказал, что занятий сегодня не будет.
— Идем на задание. Продвигаться будем гуськом, чтобы не потерять друг друга из виду. На улице Надбжежной я зайду в дом, вы по одному за мной. Один заходит, второй наблюдает. Внутри дома первая дверь налево, не стучать.
Крогулец двинулся вперед своей обычной походкой вразвалку, слегка сгорбившись, засунув руки в карманы потертой куртки. За ним шел Мак, потом Метек, последним Сук. Перешли по мосту через Любавку, свернули на Надбжежную. Метек огляделся: народу на улице почти не было. Зима в тот год стояла морозная, и все, у кого в воскресенье не было срочных дел, сидели дома, грелись у печей. Крогулец свернул к маленькому домику с желтым крыльцом, Мак за ним. Метек замедлил шаг, затем остановился якобы завязать шнурок. Все в порядке… За Суком идут только две женщины.
Когда все четверо собрались в комнате, сержант вышел и возвратился через минуту с клеенчатой сумкой. Вынул из нее пистолеты и запасные обоймы. Один из них сразу же засунул себе за ремень, остальные раздал. Метек получил небольшой плоский пистолет.
— О боже! — обрадовался Сук. — Будет драка?
— Задание. — Сержант склонился над столом и вытащил из кармана листок бумаги. — Улица Третьего мая, — все кивнули головой, подтверждая, что знают, где это, — дом номер двенадцать, ворота. — Крогулец рисовал на листке. — Здесь пост полиции. Мак, станешь на углу, — сержант показал место на схеме, — будешь прикрывать. Ты, Сук, будешь в воротах напротив. Молот войдет в харчевню к Фуглевичу, закажет чай и сядет возле окна. Я войду в дом.
Крогулец разорвал бумажку на маленькие клочки, положил их в латунную пепельницу и зажег. Ребром спичечной коробки растер сожженную бумагу в пепел.
— Стрелять только в том случае, — он поднял руку и стал загибать по очереди толстые, сучковатые пальцы, — если я начну, если вас задержит патруль и захочет обыскать или если кто-нибудь задержит двух девушек, которые выйдут из этого дома. Одна будет в белом платочке и с корзиной. Спасать прежде всего корзину, — закончил Крогулец и, словно упреждая их вопросы, добавил: — Это боевое задание.
Сержант внимательно осмотрел всех, приказал тщательно беречь оружие. Напомнил, что сопровождают девушек до костела, а потом возвращаются по одному в эту квартиру.
— Ясно?
— Так точно, — ответили ребята сдавленными голосами.
— Тогда двинулись.
Уже начинало смеркаться. Метек, несмотря на внутреннее напряжение, старался идти непринужденно. Сначала ему казалось, что кто-нибудь все же заметит его пистолет. Он озирался по сторонам, пока наконец со злости не выругал сам себя. Ведь пистолет такой плоский, да еще под курткой. Кто может заметить? Чепуха… Хорошо бы, там была Ханка… Увидела бы его, Метека. А когда-нибудь он бы ей сказал: «Тогда, когда ты шла из дома двенадцать и я тебя охранял…»
Глупые, мальчишеские мысли. По-настоящему он взял себя в руки только после встречи с немцем. Правда, жандарм шел без оружия и казался пьяным… Теперь нужно было миновать немецкий пост. Мороз, видимо, донимал часового: он весь сгорбился и быстро ходил по тротуару.
Улица Третьего мая, тесный ряд каменных домов, в одном из которых находится заведение Фуглевича. Там всегда можно выпить водки, чего-нибудь поесть, посидеть за кружкой пива. Прежде чем выйти, Метек осторожно огляделся. Сука уже не видно, подходит Крогулец. У входа двое пьяных, внутри густой и тяжелый дым махорки, хмельные голоса и запах водки. Метек протиснулся к стойке, там суетилась сестра Фуглевича, черная маленькая женщина.
— Мне бы чаю, — сказал Метек.
— Чаю? — спросила она вроде удивленно. И в этот момент кто-то хлопнул Коваля по плечу. — Это был уже солидно выпивший Зигмунт Чеслик, мастер у Бычевского.
— Метек, откуда ты взялся? — тыкал он Коваля кулаком в бок. — Познакомься с моим приятелем.
На стойке стопки с водкой, тарелка с кусочками требухи. Приятель Чеслика уже наклоняется через стойку.