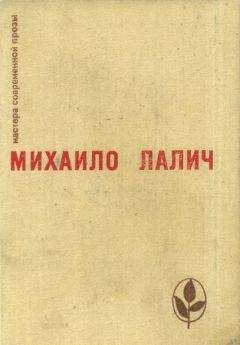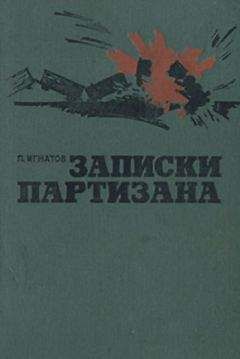Михаило Лалич - Облава
Небылиц напридумывали уйму, и трудно было понять, действительно ли то был дьявол или просто чьи-то проказы, — однако по ссорам, возникавшим из-за этого, Пашко наконец пришел к убеждению, что тут не обошлось без нечистой силы, которая вечно всюду путается. Путается, рассуждал он, и принимает разные облики. Иной раз точно начисто сгинет, а глядишь, через год-другой, когда люди уже вообразят, будто ее вовсе нет, снова появится. Вспомнив давнишние истории с привидениями, почерпнутые дедами из седой старины, Пашко незаметно перенесся в прошлое и, позабыв о всякой дьявольщине, принялся размышлять о своем братстве Поповичей из Ластоваца и Старчева и о себе.
Зовутся они Поповичи, однако вот уже сто лет никто из братства не был ни попом, ни монахом, ни пономарем. Церковь далеко, ходят в нее одни старики да старухи, и то раз в год — причаститься. Древний поповский корень, по которому они получили имя, зачах и кончился еще во времена владыки Раде[3] мудрым попом Николой. С тех пор ничего поповского — даже лукавства и красноречия — не замечалось у потомков попов, в большинстве своем плечистых, круглолицых и твердоголовых. Как правило, они были русые, медлительные в речах и скорые на руку, охочие до водки и баб, часто болели сердцем, отчего в старости скоропостижно умирали; братство давало хороших пахарей, грубых, неотесанных чабанов, верных ятаков, укрывавших всякого рода бунтарей и разбойников, были они мастаками врачевать раны, дергать зубы и кастрировать поросят, пасечниками и знахарями. В последнее время некоторые показали себя отличными слесарями, шоферами, футболистами, а один даже стал портным и коммунистом. Искусные ко всему, что делается руками, они, казалось, избегали всего, что утомляет голову; дети их сызмалу не учились, а вырастая, не жалели об этом; книги их не интересовали, постов и молитв они не любили, и глубокомыслием никто из них не страдал.
Лишь он один не такой. Даже по внешнему виду отличается от Поповичей: высок и костист, как дядья Маркетичи из Любы, и волосы у него, прежде чем поседели, были темные. От Поповичей он унаследовал только густые брови да синие глаза, которые в молодости резко выделялись на темно-коричневом скуластом лице. Это несоответствие постепенно сглаживалось и с годами исчезло совсем, но раздоры с родичами не удалось сгладить и времени.
Начались раздоры лет тридцать назад, у реки Брегальницы[4], где сербы и болгары ожесточенно сводили счеты за прошлые и грядущие распри, отнимая друг у друга голые взгорья и выжженную, красную от давно проливаемой крови македонскую землю. Явившиеся «на помощь братьям сербам» черногорцы, раздраженные проволочками, потеряли терпение и, желая во что бы то ни стало показать свою отвагу, бешено кидались в атаку с пистолетами. Болгары встречали их пулеметами, сербы смеялись над дурными братьями. Пашко было не по душе подобное геройство, в результате которого на поле боя оставались груды мертвых и раненых. Не нравилась и сама война с вчерашними союзниками. Слушая, как болгары ругались, шутили, проклинали и причитали на понятном ему языке, Пашко не мог понять, почему он должен идти на них в штыки. Он заболел лихорадкой. В жестокой горячке ему казалось, что ребята из Ластоваца разодрались со своими сверстниками из Старчева, и, если не вмешается умный человек, они повыцарапают друг другу глаза. Но ждал он напрасно — умный человек не вмешался.
Все время Пашко болел то одним, то другим. Кормили отвратительно, фасоль была червивой, хлеб ржавый, томил зной, мучила жажда, слепили освещенные солнцем голые горы, а внезапные пыльные бури не давали дышать. От этой пыли у него и у многих его земляков заболели глаза. В больнице, куда его положили, какой-то сербский недоучка-врач — по неосторожности или по незнанию — промыл ему воспаленные веки чистым спиртом. Наступило ухудшение, и его демобилизовали. Вместе с Пашко отпустили еще с десяток людей, но тем покидать фронт из-за таких пустяков казалось стыдно, и они остались. Для Пашко же это была не воина, а бессмысленная бойня, и он рад-радешенек убрался восвояси, а оставшиеся в окопах товарищи, из которых многие не вернулись, по злобе сочинили на него песенку.
Идет по улице юнак, бинты на голове,
Задумал он потешить баб в родимом Старчеве.
Тетка, милая, впусти и скорее двери затвори,
Не то убьет граната такого храброго солдата.
Впоследствии за пение этой песенки можно было поплатиться головой. Поповичи восприняли ее как поругание и оскорбление всего братства и отнеслись к ней не столь равнодушно, как он, а хватали за горло всякого, кто ее заводил, и таким образом заставили в конце концов позабыть песенку, хотя сами позабыть ее не смогли. И даже то, что позже, во время войны с Австро-Венгрией, он вдруг проявил подлинное мужество, не очень ему помогло. Все признавали, что Пашко заслуживает награды, однако родичи постарались сделать так, чтобы он ее не получил, боясь, как бы неминуемая зависть не пробудила в памяти людей проявленную им слабость под Брегальницей и связанную с ней песенку. Таким образом, обелив себя перед другими, он остался навеки запятнанным перед своими.
Пашко отделился, зажил отшельником, завел пчел, подписался на журнал «Пчеловодство» и приобрел очки, чтоб его читать. Откуда-то пошел слух, будто он знает наизусть все двенадцать параграфов неписаного Васоевичского[5] законника. Вскоре к нему приехал из Белграда ученый, чтобы послушать его и проверить какое-то спорное место. За ним повалили другие — кто записать сказания о Дукле[6], о Свадебном кладбище, о букумирах[7] или о пророке старце Стане с Бабина, кто изучать произношение и обычаи, пещеры в горах, коммунист Вранович вел разведку источников минеральной воды, и все спрашивали дом Пашко Поповича, сворачивали к нему, ночевали и дарили книги, которые Пашко читал зимой, когда дети уходили на посиделки, а жена дремала. Кафану Пашко не посещал, на поминки не ходил, в грабежах не участвовал, был молчалив, но порой, залучив досужего слушателя, долго и подробно рассказывал что из книг, что из собственной головы о небесных и земных явлениях и непонятной связи, которая между ними существует. Отпустив бороду в знак скорби по одному из близких родственников, Пашко привык к ней и больше уже не брился. Из-за этой бороды и прочих свойств характера его прозвали «Патриархом», а когда убедились, что и это его не злит, стали звать просто Пашко. Так это имя за ним и осталось.
Хозяйство было у него порядочное, подавался даже кофе для нечаянных гостей. Водились и деньги, только он остерегался давать взаймы тем, кто не любил возвращать долги. Пашко выдал замуж дочь, женил сына и, увидев, как свекровь и сноха ссорятся из-за шерсти, продуктов и работы по дому, тут же отделил его. Все было готово, чтобы встретить спокойную старость, но война, которую он давно предсказывал, все перевернула и задела за самое живое. Пашко начал заговариваться: твердил о каких-то разногласиях и партиях, которые расколют народ; одно время даже казалось, что он сходит с ума. Когда после красных появились бородатые[8], он вообразил, что Кровавая Звезда приблизилась к Земле и помутила людям рассудок. Сначала он тщетно искал эту звезду в облачном небе, потом принялся разыскивать ее в книгах. Говорили, будто Пашко что-то нашел, потому что опять успокоился. Борода его уже никому не бросалась в глаза и служила своего рода рекомендацией, оказавшись неким предзнаменованием, бородой-предтечей. Его записали в итальянскую милицию, выдали новые солдатские башмаки, винтовку и приказали сторожить мосты и дороги от коммунистов. Стали выдавать консервы, хлеб, который назывался «паек», и патроны на случай, если придется стрелять. Месяц-другой все диву давались, почему он ничему не удивляется и не протестует, но потом привыкли и позабыли.
Пашко аккуратно являлся караулить мосты на Лиме и его притоках. Итальянские башмаки из желтой кожи оказались как раз по ноге и, смазанные говяжьим жиром, не пропускали воду. Он охотно подменял на часах товарищей, когда те были заняты своим хозяйством или резались в карты. Таким образом, Пашко часто подолгу оставался один на страже и сидел, уткнувшись в свои астрологические книги, наполненные картами, схемами планет и их орбит. Одни считали его чокнутым, другие гордецом, но те немногие, которым он больше доверял, знали, в чем дело, и рассказывали, что он пытается проверить таблицы счастливых и несчастливых дней, которые составил некий Тихо Браге[9]. Данные он черпал из сводок о количестве мертвых и раненых, о пожарах и несчастьях на Лиме, Таре, Тараше и Уздомире, у Никшича, в Дробняке, в Фоче и на Восточном фронте.
Данных было больше, чем нужно, но они никак не укладывались в старые таблицы. И это принудило его составить новые, собственные таблицы. Вместо тридцати двух несчастных дней в году у него получилось почему-то больше ста восьмидесяти. Все дни между девятым и двадцать пятым выходили несчастливыми, чреватыми бедами и неудачами. Затишье наступало лишь в конце месяца, когда Злая Нечисть, насытившись кровью и умаявшись, ненадолго засыпала. Сначала он сомневался: существует ли Нечисть как самостоятельное, сознательное существо, имеющее объем и вес, но со временем убедился, что каким-то образом она дышит, живет, питается и устает. Что она устает и время от времени засыпает, он заключил позднее. Пашко, конечно, не рассчитывал захватить ее спящей и при помощи своих календарей и наук как-нибудь обезвредить — слишком был он для этого слаб и неучен, ему хотелось только изучить законы сна Злой Нечисти и попытаться каким-то образом его продлить.