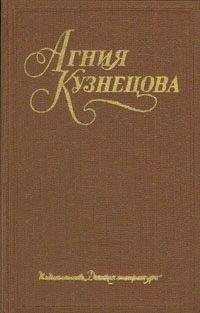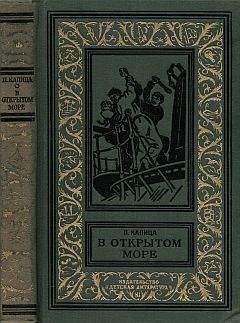Аурел Михале - Тревожные ночи
— Браток… не оставляй меня немцам, браток!.. Санитар!
— Мама… ох, родненькая моя!
Лежали мы вперемежку: немцы и румыны вместе. Это означало, что исход боя не решен, что мы находимся на ничейной территории. Этому я несказанно обрадовался: значит, немцы все-таки не прошли.
Я решил пробираться к нашим на вершину. Приподнялся на локоть. Но стоило мне только опереться ногой на землю, как от страшной, пронизывающей боли я снова упал. Ноги, раздробленные осколками ниже колен, перестали ощущать что-либо; казалось, их сжигало пламя, которое подавляло во мне последнюю искорку сознания. Я протянул руку и наткнулся на клейкую, спекшуюся, смешанную с землей кровь.
Но я быстро забыл о ране. Нестерпимо хотелось пить.
Невыносимая жажда заставила меня, несмотря на страшную боль в ногах, подняться и медленно поползти на локтях от одного убитого к другому, в расчете найти у кого-нибудь на поясном ремне или в продовольственной сумке фляжку с водой. У одного из наших, лежащего с разбросанными, словно крылья большой, сбитой в полете птицы, руками, которыми он будто хотел обнять родную землю, я нашел полную флягу и припал к ней губами. Это была вода из нашего Муреша. Я почувствовал прилив новых сил. Но не успел я напиться, как рядом поднялась железная каска и выстрелила. Фляга выскользнула из моей руки и упала. По руке потекла кровь. Глаза снова застлал туман, последние силы покинули меня. Все же я смутно различил, как немец бросился вперед, схватил фляжку и поднес ее ко рту. Однако не успел он напиться, как кто-то из немцев же выстрелил в него и, мучимый дикой жаждой, бросился на фляжку. Но когда он поднял ее, воды там уже не было. В отчаянии немец бросился на землю и застонал.
Я остался лежать, устремив взгляд на звезды. Мне вспомнились снова слова Гриши о весне нашей жизни. Теперь я был уверен, что не доживу до этих дней. И я впервые почувствовал, как на глаза набежали слезы, а сердце сжалось от отчаяния. Слезы затуманили взор и спутали мысли; я опять лишился сознания…
Через некоторое время я пришел в себя. Потеряв последние силы, я находился на грани жизни и смерти. От жажды во рту все горело, раны болели, точно их жгли каленым железом. Но мысли были ясными. По слабому мерцанию звезд я понял, что ночь подходит к концу. А вместе с ней и моя жизнь… У меня теперь было лишь одно-единственное желание: дожить до того мгновения, когда наши вместе с советскими солдатами поднимутся в атаку из лежащего справа от нас леса. Это будет месть и за меня, и за Гришу, который, наверное, тоже неподвижно лежит около своего пулемета, и за эту землю, и за оскверненные захватчиками и окрашенные нашей кровью воды Муреша…
Вдруг в стороне я услышал еле различимый шум и шепот на чужом языке и вздрогнул. Собрав последние силы, я повернул голову и смутно различил какую-то тень, ползущую среди трупов. Тень останавливалась около каждого раненого, поворачивала его лицом вверх и при свете звезд вглядывалась в него, а потом двигалась дальше, что-то бормоча. Я протянул руку к бедру и вытащил пистолет. «Собаки, — проговорил я про себя, думая о гитлеровцах. — Нет в них милосердия ни к раненым, ни к мертвым!» Но ослабевшая от потери крови рука не смогла удержать пистолет, и он выскользнул из нее и упал рядом. Несколько мгновений показались мне вечностью. Тень приближалась; я почувствовал ее рядом с собой, увидел, как она нагнулась надо мной, и вдруг услышал полный печали шепот:
— Эх, приятель… приятель!
По горячему дыханию я почувствовал, что это Гриша, и с отчаянием обвил здоровой рукой его шею. Гриша лег рядом со мной, быстро перевязал мне раны и напоил водой из висевшей у него на поясе фляжки. Потом он положил мою голову на свою перевязанную руку и здоровой рукой вытер мне покрытый холодной испариной лоб.
— Гриша, — прошептал я, сжимая его руку, — не оставляй меня!
— Молчи! — успокоил он меня. — Молчи!
Он поднял пистолет и вложил его в мою здоровую руку, потом взял в зубы связку гранат и, обхватив меня за грудь рукой, пополз между трупами немцев к вершине высоты. Я понял, что немцы потеснили наших, но мы все-таки не сдали им высоты. Рубеж гитлеровцев проходил где-то рядом.
Вскоре Гриша остановился, положил меня на землю и вытащил гранату. Невдалеке от нас в сторону позиций противника ползли раненые немцы. Когда их тени исчезли, он вновь обхватил меня, и мы двинулись дальше. Пока ползли к вершине, над нами несколько раз взвивались ракеты. Тогда мы замирали, прижимались к земле, спасаясь от летящих нам вслед трассирующих пуль.
Своих позиций мы достигли, когда уже светало. От наших осталось всего лишь семь — восемь бойцов, которыми командовал сержант. Он разделил их на две группы, придав каждой по одному спасенному от гитлеровцев пулемету. Гриша опустил меня на землю и положил рядом со своим пулеметом. В предутренней тишине я вновь услышал спокойный плеск вод Муреша и легкий шелест леса. Там над лесом, к востоку, постепенно светлело небо… «Что делают наши? — спрашивал я себя. — Смогли ли они пройти в лес? Вовремя ли они начнут атаку?»
Я разжал кулак и посмотрел на звездочку Гриши… «Красная Армия не оставит нас одних!» — подумал я. Меня охватила какая-то вялость, от которой затихла боль в ранах, и я закрыл глаза. Я не знал, сможем ли мы в конце концов вырваться из когтей немцев, однако здесь, подле Гриши и своих солдат, я успокоился и почувствовал себя в безопасности…
* * *Разбуженный шумом, я открыл глаза. Около пулемета Гриши лежал какой-то солдат и соединял пулеметные ленты. Гриша, нахмурившись, застыл у пулемета. Он был без пилотки: потерял ее, вероятно, когда разыскивал меня среди немцев. Дувший со стороны леса ветер развевал его мягкие русые волосы. В это мгновение я увидел, как он здоровой рукой схватил за гашетку пулемета и направил его в сторону ложбины. Это означало, что немцы все-таки не отказались от захвата высоты и снова атакуют ее. Я приподнялся и увидел, как новые цепи темно-серых железных голов заполнили всю ложбину и ползли на нас. Их было втрое больше, чем в предыдущих атаках. Я с болью подумал о том, что приближается конец. Понял это и Гриша. Он торопливо посмотрел на часы и озабоченно пробормотал больше для себя, чем для окружающих:
— Эх!.. Еще бы пять минут… Всего пять минут!
Надо было удержать высоту еще в течение пяти минут: через пять минут наши и советские батальоны начнут наступление справа, из леса, и разгромят врага.
Однако немцы в ложбине не собирались ждать этих пяти минут и хлынули на нас. Внезапно ударил пулемет Гриши. Он косил широкие ряды наступающих фашистов. Но, несмотря на потери, производимые в рядах железных голов, поток их рос и приближался к гребню. Гриша привстал на колени и начал поливать наступающих длинными очередями. Я пополз к нему и стал помогать солдату, который не успевал соединять пулеметные ленты.
В это самое мгновение короткая очередь ударила впереди нас. Гриша упал на пулемет, которым вот уже в третий раз за эти сутки сеял смерть и страх в рядах фашистов. Его пулемет на некоторое время умолк. Гриша, превозмогая боль, поднял искаженное от страдания и ненависти лицо и посмотрел в сторону немецких цепей. Он снова спокойно прицелился, но затем бессильно склонился над пулеметом. Рука его продолжала судорожно давить на гашетку, и огонь бушевал еще сильнее. Цепи немцев дрогнули, словно от резкого порыва ветра, и снова залегли…
Тогда, именно тогда справа на них обрушился уничтожающий огонь. Он прозвучал как рев волн и рокот бури. Наконец наши начали атаку из леса! Гитлеровцы растерялись; их цепи пришли в замешательство, начали редеть и дробиться, стали отползать назад. Начавшаяся из леса атака охватила их ужасом неизбежной смерти.
Пулемет Гриши стучал до последнего патрона. Потом замолчал навсегда. Я посмотрел на Гришу и увидел, как его рука медленно сползла с гашетки. Я испугался, переполз к нему на другую сторону пулемета и, повернув его лицом вверх, крикнул слабым голосом:
— Гриша!
Но было поздно. Рука Гриши безжизненно ударилась о землю. Я вопросительно посмотрел на солдат, нагнувшихся над нами, и понял по их лицам, что Гриши больше нет. Я заплакал и, со стоном упав на Гришу, обхватил его за шею.
— Гриша!.. Григорий Петрович!
Внизу наши и советские солдаты дрались с немцами, оттесняя их все дальше на дно ложбины. Шум боя удалялся, постепенно кругом установилась тишина, и землю объял свет восходящего солнца. Снова послышался неумолчный плеск вод Муреша и шум дубравы. Солнечный луч робко затрепетал на лбу Гриши, словно желая согнать хмурое выражение, застывшее на его лице. И ветер легко, словно лаская, шевелил его волосы…
Там, на гребне, мы вырыли Грише могилу. У его изголовья я воткнул в землю карабин, вниз дулом. На гладком прикладе я прикрепил красную звездочку, которую он мне прислал во время боя, и четко вывел карандашом: «Григорий Петрович Белушкин».