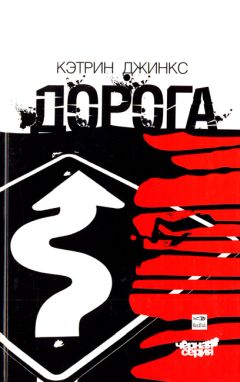Иван Леонтьев - Тяжело ковалась Победа
Яков и Гаврил у англичан тоже служили. Часто наезжали в деревню: заберут девок – и на рысаках в Холмогоры кутить, потом по деревням с гармонью. Деньги куда-то девать надо было? Жалованье ведь платили: офицеры! А девки покрасоваться сами не свои: нарядятся – и давай выплясывать. Думали, веселая жизнь без конца.
Но, как говорят, у каждого восхода свой закат.
Где-то осенью девятнадцатого англичане убрались, вслед красные наскакали. И началось: кто у англичан служил? Петра Семеновича долго таскали в следственный отдел. Гаврил и Яков куда-то скрылись. Зимой двадцатого они ночью тайком пробрались, а наутро их и сцапали. Свиданий Семену Филипповичу с сыновьями не давали, даже близко к Холмогорскому монастырю не подпускали, где их держали, да еще пригрозили: будешь надоедать – сам вляпаешься.
Летом двоюродница часто ночевала с подружками в острову, чтобы чуть свет не бежать из дому на дойку. Коров еще весной туда перевозили – они так там и паслись. Она с солнышком вскакивала, доила коров и несла своим парного молочка, пока они из дому не разошлись. И где-то в это же время, раненько утром, арестантов гоняли на лесоповал. Крик, шум, ругань в колонне… Монахи, босоногие офицеры, оборванные мужики… Плелись еле-еле, конвой матюгался… Вскоре колонна скрывалась за поворотом. Девки часто слышали: пах, пах! Однажды она заметила в колонне Гаврила и Якова. Мать ее шепнула потом Филипповичу. Он несколько раз ночевал в острову, но… сколько ни всматривался, так ничего и не высмотрел…
По всей России такая круговерть пошла… Деникин, Колчак, Врангель… Белые, красные…
В двадцатом, кажись, с Польшей еще схватились. И там много наших полегло…
При продовольственной разверстке хлеб у крестьян почти весь изымали, только-только на еду-то оставляли, а иногда и тот забирали. Во многих губерниях постреливать начали. Федора и Андрея направили на тамбовских мужиков, а моего родителя и отца Никиты послали на кронштадтских матросов. Федор сплоховал – не укараулил арестованных мужиков: они каким-то чудом из сарая выбрались, колом его огрели, обмотками связали, винтовку прихватили и скрылись. Осудили его на пять лет, а могли и расстрелять. Петра ранило осколком, он раньше всех и вернулся.
Потом ввели продовольственный налог. Вроде полегче стало.
Дальше – больше. Одних мужиков начали раскулачивать, других – сгонять в колхозы. Народ зашевелился – побежали на стройки, в города… Деревню вот и растревожили: кто сам поехал в поисках лучшей доли, кого под конвоем повели.
– Деда, деда, – подал голос Алеша, – пойдем! А то бабушка ругать будет.
– Завтра продолжим, – согласился Алексей Михайлович. – История-то длинная…
– Деда, – задрав голову, спрашивал Алеша по дороге, – бабушка говорит, подглядывать нехорошо.
– Конечно, – подтвердил Юрий Павлович.
– А почему он подглядывал за девочкой?
«Играл, а запомнил», – подумал Юрий Павлович.
3Всю ночь шел мелкий, противный дождь. Утром ветер тащил над крышами мрачные тучи. Казалось, измороси не будет конца.
Алеша кутался в лоскутное старенькое одеяло, ныл и который раз спрашивал: «А когда папа приедет?»
Юрий Павлович решил развлечь внука – сделать тележку с двумя десантниками. Тележка должна была катиться на двух колесиках, а солдатики – поворачиваться.
Юрий Павлович вырезал из фанеры фигурки и отдал внуку раскрашивать, а сам принялся мастерить остальное. Дело оказалось непростым, заняло весь день. К вечеру тележка была готова. Земля к тому времени обсохла, они покатали тележку по двору. Солдатики, в красных беретах, с черными автоматами, хоть и лениво, но поворачивались.
Алеша был рад-радехонек. Засыпая, он представлял, как удивится завтра дедушка Михалыч. Ночью ему приснился сон, будто рыбак гладил его по голове, хвалил за работу и подарил огромную рыбину с выпученными глазами.
Утро было тихое, светлое, небо переливалось радужными красками. Казалось, что сегодня будет хороший клев. Хотелось самим наловить рыбы.
Как только они прошли протоку, сразу заметили над ивняком вьющийся дымок от костра. Поприветствовав Алексея Михайловича, Юрий Павлович предупредил внука, чтобы не шумел, и принялся готовить снасти. Алеша приблизился к дедушке Михалычу и начал катать у него за спиной тележку. Рыбак посмотрел и улыбнулся:
– Вот это мастера-а-а!
– Я красил.
– Вижу. Дедушка бы так не сумел. Иди хлебай уху, только не обожгись.
Алеша уплетал уху с таким аппетитом, словно был голоден.
Старики некоторое время молчали, но мало-помалу опять разговорились.
– В деревне сено – первый товар. В сенокосную пору все, от мала до велика, трудились на пожне, – заговорил Алексей Михайлович. – Всем с малолетства было ясно: сено есть – так и скотину держи, а нет – на базар веди. Без коровы какая жизнь в деревне? Семен Филиппович никого не жалел. Домовничать с малыми детьми оставлял совсем старую свекровь, а остальных всех на покос. И Анну, жену Якова, с трехмесячным не пощадил. Ртов-то за столом: Александра с тремя, Мария с тремя, у Арины – четверо, самих двое, свекровь, да еще Анна… На стол только подавай. А как прокормить? Большак должен думать.
Кто мог грабли в руках держать, Семен Филиппович всех на пожню забрал.
Вздумала было Анфиса заступиться за Анну с грудным, но дед цыкнул – и жена примолкла: не принято было пререкаться.
– Куда она? Дорога такая!..
– На пожню! Закудыкала!.. Ты, што ль, метать-то будешь? На телеге поедет!
Идти не ближний свет – верст двенадцать. На лошадях, когда зимой ездят, только раз и обернутся. Да и то в сутемках уже на поветь заедут.
Косить обычно нанимали Игната с его дружками, таких же пьянков. Он, бывало, мимо не пройдет, где пиво варят, чтобы криком не зацепить: кинет что-нибудь в задор с надеждой, что зазовут его на чарочку. А семья бедствовала: мелкая рыба с картошкой, да и то впроголодь. Один пустовар – кипяток с ржаной мукой, как болтушка, но трудиться-то не любили. Соседи с утра уже в поле, а у них еще и печка не топлена.
Мужицкий труд – рабский. Лето красно коротко, все надо схватить: и то, и это, и сена настожить, и дров в лесу накряжевать, чтобы зимой только накатать – и домой. За лето-то сколько рубах изорвешь? Ни одной без нахлесток (заплат) не найдешь. Игнат, бывало, все хорохорился, выпьет – и шатается по деревне: «Только Филиппович да я, а то все ошоша (мелкота)». Сам беднота беднотой: подворьишко – двор да мала изба, коровенка – и та никудышная, а туда же…
Филиппович хоть и богато жил, но каждую копейку берег.
Всей семьей сено сушили и метали, а то волглого в стог наложат такие труженики, как Игнат, – преть ведь будет.
Ворочали, досушивали, сгребали, на волокуше таскали. Спали вповалку на полу и на полатях в избушке. Анна своего грудника по ночам убаюкивала и другим спать не давала, а днем кормила и оставляла посередь пожни. Прикроет платком или сарафаном, чтобы солнце не пекло да слепни не грызли, – и убежит валки ворошить, на волокушу наваливать, метать.
Уже седьмые сутки женщины с детьми во главе с Семеном Филипповичем ворочали сено, сушили, сгребали, таскали, возили и метали. Не ахти какая сила, но других работников нет!
Избенка на расчистке – у самого леса, ближе к ручью. Всю лопотину да еду там держали, а дневную поживу, квас в туесах, лохмоту, чтобы детям отдохнуть да самим не колко было, сразу вперед несли, а уж Анна свое дите так по пожне и таскала: где сама, там поблизости и ее грудныш на пеленках, платком прикрытый. Чуть пискнет – она тут же летит.
От усталости грабли из рук выскальзывали, как намыленные. У ребятни баловство на уме – кувыркались на сене, пока дед не крикнет, женщины толковали про детей да мужей, когда валок гребли. Анна за эти дни наломалась, так к вечеру уже перестала откликаться на каждый писк.
Была она и работяща, и угодлива, только не ладилось у нее – как пахорукая какая. После нее часто переделывать приходилось. Старик то и дело кого-нибудь из подростков подгребать за ней посылал. Принесут девчонки беремя, он и шутит: «Вот, Танюха, это тебе на приданое!» Сено-то в деревне ценилось на вес хлеба, каждый клочок берегли.
Пожня вытянулась чуть не на четыре версты загогулиной, в ширину – саженей пятьсот. Вся в кочках, буграх – тяжело дочиста-то сгребать.
Упряг ломили, потом брели к лопотине – что-нибудь пережевать, отдышаться да кваском горло промочить. Анна впереди всех бежала к своему сосунку – покормить да приголубить. Оставит его опять на бугорке, когда все поднимутся, чтобы на виду был, а сама – грести или метать. Пот с нее градом – вся обливается.
В последний день большак всех торопил: долго ведро не продержится, тучи уже загуляли, вот-вот дождь налетит. Сухое сено под дождь пустить – грех великий. Это ж какой убыток! Все напрягались, то и дело на небо поглядывали. А ребеночек нет-нет да и завеньгает, захнычет. Раз, да другой – и не выдержал Семен Филиппович: