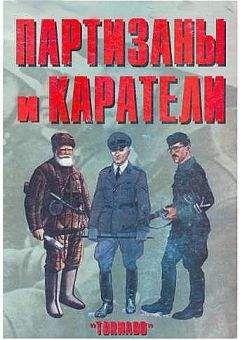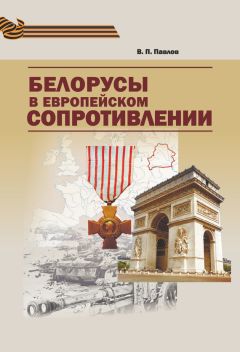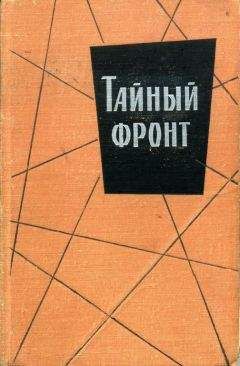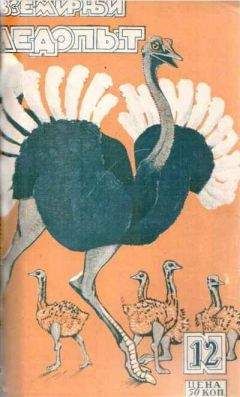Тейн Фрис - Рыжеволосая девушка
— Не бойся, и до тебя дойдет очередь… Пока мне приходится экономить силы. Группа наша теперь не так велика, как прежде. Не могу же я остаться без резервов.
Он сам проводил меня затем по нужному адресу, где на ротаторе печаталась нелегальная «Де Ваархейд». Это было в северном районе Гарлема. Ротатор прятали на чердаке в старинном рабочем домишке; чтобы проникнуть на чердак, надо было поднять крышку люка и подставить к отверстию лесенку. Самый ротатор Рулант и Ян «увели» прошлой зимой из конторы фашистской биржи труда.
Я работала почти всегда вместе с кем-нибудь из членов нашей группы; в распространении газеты нам помогала дочь хозяев домика — краснощекая, очень веселая девушка всего года на два моложе меня; кроме того, развозкой газеты занимались еще несколько молодых людей, которые беззаботно колесили на своих велосипедах с туго набитыми сумками по всему городу. Все они были сердечные, смелые люди.
Сообщения из Италии были путаные, хотя и обнадеживающие. Гораздо лучше были сообщения с Восточного фронта. Редко когда после Сталинградской битвы Красная Армия так сильно и так успешно била фашистов, как на Донецком фронте, и так быстро продвигалась вперед. Она истребляла гитлеровских солдат десятками тысяч. Всякий раз, как я приходила в штаб, я узнавала, что на Восточный фронт снова отправлен из нашей страны эшелон с немецкими солдатами.
— И с каждым разом солдаты все моложе и моложе, — сказал мне однажды Рулант. — Сегодня я встретил их на станции, на вид они были не старше шестнадцати-семнадцати лет. Как-никак, но мне их все-таки жалко. Сколько наивных детей отдадут свою юную жизнь, чтобы собственным телом закрыть брешь, которую ликвидировать невозможно. Они чуть не падали, сгибаясь под тяжестью снаряжения…
— Нет, тебе, я вижу, пора поступать в няньки, Рул, — безжалостно заявил Эдди.
Я взглянула на Руланта; я была совершенно с ним согласна и ожидала, что он сейчас вспылит. Однако он продолжал спокойно сидеть, переплетя пальцы своих коротких сильных рук каменщика.
— Я думал о том, — сказал он, пренебрегая язвительным замечанием Эдди, — что моему старшему мальчику через два года исполнится шестнадцать… Я видел их, этих детей; на их рожицах застыл страх смерти.
— Вот и хорошо, — вступил в разговор Йохан, один из самых молодых в нашей группе и еще не женатый. — Пусть это послужит им уроком. Мне ничуть не жаль этих сволочей. Пусть немецкий народ последует примеру итальянцев и тоже откажется от войны.
— Истребить, истребить надо всех этих каналий! — воскликнул слесарь Том.
Франс вмешался, положив конец разговору:
— Существуют две вещи, друзья, в том числе и в Германии, которые нам, невзирая ни на что, следует различать: одно — это гитлеры и их приспешники, а другое — немецкий народ. Вы знаете, что сказал Сталин: «…гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское — остается».
Я поглядела на товарищей. Они пробормотали что-то и умолкли.
Каждую ночь с наступлением темноты раздавался пронзительный гул моторов английской авиации. Каждую ночь хлопали и жалобно ухали зенитки; Гамбург был уже разрушен, жители его, как сообщалось, массами покидали город. Эвакуация Берлина, казалось, была лишь вопросом времени. Падение Муссолини вызвало брожение в Австрии. В солдатах австрийцах на службе немецкого вермахта внезапно стали подозревать возможных врагов и заговорщиков, опасных для Германии. То тут, то там австрийские роты расформировывали и солдат распределяли по разным воинским соединениям. Этим летом возмущение перекинулось даже на страны, откуда никогда не доходили вести о движении Сопротивления; в Дании забастовки стали обычным явлением. В Голландии было издано запрещение разъезжать в северных и восточных провинциях тем, кто не жил там постоянно. Говорили, что у фашистов неважное положение: участились налеты на карточные бюро и покушения на изменников родины среди чинов полиции и жандармерии. Прошел даже слух, что полиция устроила чистку своих собственных рядов, изгоняя из них предателей, и что нацисты собираются вскоре организовать исправительные лагеря для голландских полицейских-патриотов. Кроме того, всем было известно, что провинции, где действовал запрет передвижения, кишмя кишат подпольщиками; на них регулярно устраивались облавы, хотя, как мы слышали, ощутимого результата это не дало: жители этих провинций ловко укрывали тех, кого разыскивали немцы.
В начале сентября произошел крах «оси», который предсказывал Франс: капитулировала Италия, и итальянский флот направился в гавани союзников.
По немецкому радио мы слышали речь Гитлера, который, точно кликуша, вопил, что «выродившейся плутократии» никогда не удастся вовлечь немецкий народ в заговор, подобный событиям 25 июля, что Италия всегда была для Гитлера, собственно говоря, путами на ногах и что теперь он, освободившись от этих пут, будет сражаться с еще большей уверенностью и воодушевлением.
— До смерти, до скорой смерти!.. — громко пропел Эдди, подражая оперному певцу, когда я перевела товарищам речь Гитлера. В этот вечер мы у себя в штабе много шутили, много пели и смеялись.
Мужество отчаяния
В тот самый сентябрьский вечер, когда мы услышали, что парашютисты-эсэсовцы вывезли Муссолини из тюремного заключения и перебросили в район, занятый фашистами, кто-то позвонил мне по телефону. Я взяла трубку: женский голос, немного охрипший или же умышленно приглушенный — я сначала его не узнала— несколько раз произнес мое имя: «Ханна? Ханна?!»
— Да, это я… Кто это?
Повторять вопрос не было надобности: в тот же момент я узнала, кто говорит, как это ни было невероятно. Я оторвалась от телефонной трубки и крикнула на весь дом:
— Это Таня!..
Отец с матерью и Юдифь, сидевшие в гостиной, в растерянности окружили меня, не понимая, в чем дело. Я дрожала. Руки мои дрожали, голос срывался:
— Таня… где ты?
— Я звоню из Католической больницы, — произнес хриплый и все же такой знакомый голос: он звучал так мрачно, будто доходил с того света. — Можешь ты прийти ко мне?
— Я приду, — поспешила я ответить, хотя в голове никак не укладывалось, что со мной говорит по телефону настоящая Таня. На какой-то момент я даже подумала: это провокация, западня!
Мне вдруг вспомнилась бледная, безвольная физиономия с глазами-бусинками— типичный представитель определенной сорта людей — предателей, продавшихся чужеземцам и применявших самые подлые средства, чтобы схватить человека. Но эта мысль быстро исчезла, уступив место другой: я должна узнать, что с Таней; и я тут же села на велосипед.
Я мчалась вовсю, низко согнувшись над рулем; приближаясь к больнице, я поехала медленнее, осторожнее. За сто метров до длинного больничного здания я сошла с велосипеда и стала осматриваться. И вдруг увидела Таню. Она выглядела как-то очень странно, и все же это была она. Она тоже заметила меня, нерешительно подняла руку. Сердце мое билось так, что я едва дышала. Я пошла ей навстречу. И снова мелькнула мысль: а вдруг здесь все же западня? Гитлеровские молодчики, вспомогательная фашистская полиция выставили Таню в качестве приманки? Они сидят в засаде и схватят меня, как только я появлюсь. Я поманила Таню к себе. Она подошла ко мне какой-то неуверенной, робкой и усталой походкой. Я поглядела на подъезд больницы. Никто за Таней не следил. Прислонив велосипед к стене дома, я пошла навстречу Тане и молча обняла ее. Она на несколько секунд крепко прижалась ко мне, как ребенок.
— Скорей, скорей, — торопила я ее, — садись на багажник!
Мы с бешеной скоростью помчались домой; я так волновалась, что велосипед выписывал зигзаги.
Всю дорогу мы не разговаривали. Подъехав к дому по задней тропинке, мы прошли через калитку в садик. Я втолкнула Таню в комнату и плотно задернула шторы. Мать и Юдифь поспешили Тане навстречу, на мгновение молча остановились, пораженные ее видом, затем бросились обнимать ее. Отец сухо покашливал, шептал что-то, бормотал себе под нос и снова кашлял. Когда настал его черед поздороваться с Таней, он от волнения не смог выговорить ни слова и только долго пожимал ей руки. Я стояла рядом и смотрела на отца и Таню. Только сейчас я как следует разглядела ее. На ней был ее собственный непромокаемый черный плащ, накинутый на странного вида мешковатое бумажное платье с очень длинным лифом и огромным вырезом у шеи. На ногах — черные огромные башмаки и грубые чулки противного розового цвета. От былого изящества Тани не осталось и следа. Однако не одежда так изменила ее: другим стало ее лицо. Оно осунулось, появились синие круги под глазами и синие жилки на висках, горестно сжатый рот казался чересчур большим; глаза утратили свою прежнюю теплую грусть — в них застыл ужас, они выражали суровость и какую-то безнадежность. Она озиралась вокруг, переводила взгляд с одного на другого. Видно, она сама не верила в свое возвращение. Отец пододвинул ей стул. Первая нарушила молчание мать: