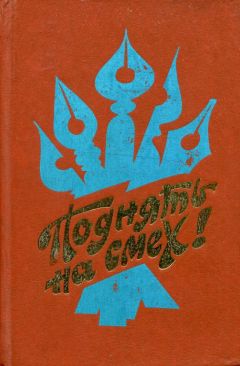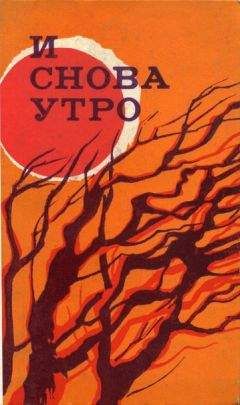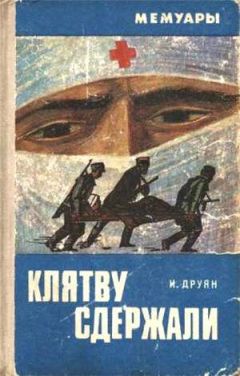Ибрагим Абдуллин - Прощай, Рим!
— А почему Порт-Саид называется? — опять вставляет свое слово неугомонный Таращенко.
— Тогда в Египте правил Саид-паша. Человек он был тщеславный и, хотя весь народ молил и просил его назвать город Порт-Таращенко, он остался непреклонен. Предпочел обессмертить собственное имя. Кстати, — говорит Сережа тем же учительским тоном, — еще в стародавние времена, когда в Египте царствовали фараоны, здесь тоже был канал. В восьмом веке багдадский халиф Мансур приказал засыпать его.
— С чего это он?
— Об этом, товарищ Таращенко, ты уж спроси у самого халифа, мне он почему-то не доложил.
Таращенко не обижается. Стоит себе и смотрит на Сережу с ласковой усмешкой. И вообще не так-то, пожалуй, просто разобидеть и вывести его из равновесия.
— Ну и наградил тебя бог памятью, — говорит он, качая головой.
— А тебя и фигурой, и красивым лицом!
— Память — это самый бесценный дар природы, — говорит Антон, почему-то вдруг загрустив.
— Занятно устроен этот мир, — заявляет, покусывая ногти, Дрожжак. Есть у него такая склонность — вслух поразмышлять.
— Чего занятного нашел?
— Логунов тебе завидует, а ты ему.
В разговор вступает Иван Семенович Сажин:
— Я, мужики, своим темным умишком полагаю…
— А ты себе под черепок электричество проведи, сразу в башке просветлеет.
— Так вот, мужики, темным своим умишком я полагаю, что нет на свете человека, у которого кругом шестнадцать. У одного фигура и лицо, но тут пустовато, — Сажин постучал пальцем по лбу.
— Ого! Камень в огород красавцев!
— Хлопцы, не мешайте-ка человеку. Говори, говори, Аннушка, люблю слушать, как ты философствуешь, — заступается за Сажина балагур и весельчак Петя Ишутин.
— Другой поет, что соловушка, но косит на один глаз.
— Выходит, скуповат он, господь бог?
Таращенко обычно раззадорит людей на спор, сунет, так сказать, палку в муравейник и отойдет. Однако сейчас он не выдержал, пододвинулся ближе:
— Не скуп, а считать умеет. Как в аптеке, граммами отпускает каждому.
— И таким образом изъяны возмещает достоинствами и наоборот, — делает вывод Сережа. — Если бы он дал одним, не считая, и не оставил бы другим ничего, люди бы вечно жили, разделившись на два лагеря. Высшая раса и низшая раса. Рабы и рабовладельцы… Нет, природа создала всех равными.
— А гении? По-твоему, все люди, что ли, рождаются гениальными? Потом портятся?
Сережа, словно бы ожидая помощи, косится на Леонида. Почесывает ногтем большого пальца кончик длинного, тонкого носа. Чувствуется, ищет, как ответить, но не придумает.
— Этого сказать я не могу, но в книгах читал, что человек еще в чреве матери получает все добрые задатки. Если бы потом жизнь не глушила их…
— А Гитлер-то говорит, что человек на свет злодеем рождается, — перебивает все тот же Таращенко.
— А сам-то он каким на свет появился? — спрашивает Дрожжак.
— Бешеным псом. И смерть у него будет собачья! — чуть ли не кричит Петр. — Эх, попал бы он мне в руки!
— Чего бы сделал?
— Делать ничего бы не стал. Посадил бы его в чем мать родила в железную клетку и возил бы из города в город, из деревни в деревню…
— А я бы ему шилом всю шкуру спустил.
— А я бы в людских слезах утопил.
— А я…
Но тут огромный корабль развернулся кормой к причалу. Загремела короткая, отрывистая команда на английском языке.
Наконец океанский гигант, безропотно подчинившись воле человека, пришвартовался к пирсу. До обеда оставалось еще порядком, но людям раздали паек: банку тушеной свинины и буханку хлеба на пятерых, по два куска тростникового сахара на каждого и кипятку от пуза.
— Чего-то они поторопились, — сказал Сажин, привыкший обедать не спеша, долго и старательно прожевывая каждый кусок. И вообще, любит он поесть, Иван Семенович. Даже зачерствевшую корочку черного хлеба уминает со вкусом, точь-в-точь как телка ярославская.
— Похоже, выгружать будут. Пошевеливайтесь! — сказал Леонид.
Сажин вытер ладошкой губы и вскочил. Всполошился:
— А я все же надеялся, что нас прямиком в Одессу привезут.
— И мечтал оттуда прямиком к Аннушке под одеяло нырнуть? — посмеивается Ишутин и командует, ткнув того в живот: — Подтянись! Обрадовался, пузо начал отращивать? Далеко еще до Аннушки, Иван Семенович! Лаптем не докинешь.
— Далеко? Почему далеко? Самая тяжелая, долгая часть дороги уже позади.
— А ты, стало быть, рассчитываешь, что дома нас встретят с духовым оркестром и сладким чаем? Держи карман шире! Или запамятовал, где побывал и откуда едешь?
— Но мы ни в плену, ни потом, когда убежали из плена, не забывали, что мы советские люди.
— Я-то и без тебя все знаю…
Между тем корма корабля раздалась в стороны, и в открывшийся проем на нижнюю палубу въехали тяжелые «студебеккеры». Кузова их были затянуты брезентовым тентом.
— Пошли!
— Ну и печет!.. И с чего это солнце так взъярилось на нас? — Ишутин расстегнул ворот до последней пуговицы.
— У нас в Чирчике жара, но здесь… — Весь мокрый от пота Мирза-ака вытирает пилоткой тщательно, вчера только выбритую голову. — Ой-ой, как греет…
— Товарищи, нас зовут! Ишутин, застегнись. Мы не у себя дома, а в чужой стране.
Колесников собрал свою команду и повел ее вниз, где их ждали грузовики.
— Садиться по двадцать человек!
— А куда поедем?
— К теще на блины.
— Моя теща в Грузии. Жмем тогда прямо до Цицхвари.
Не успела машина тронуться, как прибежал запыхавшийся негр-матрос.
— Стоп! — Его широкие ноздри вздрагивают, словно крылья большой бабочки. Он протягивает Колесникову кинжальчик с плексигласовой ручкой. — Бери! Сувенир. — На ручке ножа были вырезаны буквы «М. Р.». Негр ткнул перламутровым ногтем в те буквы: — Майкл Роун.
— Спасибо. Данке. Я Леонид.
— Не данке, а сенкью.
— Сенкью, Майкл. — Леонид понимал, что такой подарок обязывает. Сунулся в карманы, порылся, поискал что-нибудь равноценное. Но что может найтись в его карманах!..
Майкл указал пальцем на звездочку на его пилотке.
— Звездочку твою просит.
— Понимаю. Да ведь жалко. Нашел ее в блокноте немца, которого взял в плен в Италии. Дорога как память.
— Отдай. У меня их две, поделюсь.
Леонид приколол к тельняшке Майкла маленькую красную звезду — эмблему Красной Армии. Тот на седьмом небе, улыбается, рот до ушей.
— Па-си-бо! — Вдруг он посерьезнел. Стал по стойке смирно, отдал честь: — Гуд бай, то-ва-риш.
— Гуд бай, Майкл. Спасибо. Сенкью. Приезжай в Москву!
— Москау! Сталинград! — Майкл поднял над головой огромный, крепкий кулак.
«Студебеккеры» покинули корабль и выехали в порт. А Майкл все стоял на палубе с поднятым к небу могучим кулаком. Подошел офицер, дернул его за рукав. Негр даже не взглянул на него. Глаза его были устремлены на колонну машин, уже скрывавшуюся за городскими зданиями, а сердце… Трудно сказать, где было сейчас его сердце. Может, Майклу хотелось бы сейчас быть вместе с людьми, сидящими в тех машинах. Эти парни не делят человечество на разные категории, глядя на разрез глаз или цвет кожи. И синеглазый, русоволосый Леонид, и широкоскулый узбек, лицом чуть побелее Майкла, вместе — за одним столом — обедали и спали бок о бок на одной палубе. А может, он думал про древнюю землю отцов — про Африку, охотился в джунглях, слушал перекличку тамтамов.
Офицер сжал его локоть, что-то сердито сказал. Майкл повернулся, в упор посмотрел офицеру в глаза и ушел с палубы.
Когда последний «студебеккер» с последними солдатами в кузове выехал в порт, корабль дал три отрывистых свистка. Это был прощальный привет: «гуд бай!..»
— Ишь ты! — буркнул Таращенко, откинув обеими руками упавшие на лоб волосы. — Какие внимательные, вежливые.
— Как же, на то и союзники.
— Эх, если б и после войны жить всем в мире и в дружбе.
— Почему бы нет? Так и будем жить, — уверенно заявил Логунов. Он был среди них, пожалуй, единственным, кто не жаловался вслух на жару. Стеснялся парень показать слабость.
— Поживешь с ними, — сказал Леонид, вспомнив, что делалось шестого июня. Когда американцы вошли в Рим, отряды итальянских и советских партизан собственными силами сумели очистить от врага город Монтеротондо. Это был настоящий праздник. Жители города мелом и краской чертили на стенах, заборах, столбах: «Эввива Руссия! Эввива Моска!..» Но на следующий день все эти приветствия и поздравления были или стерты, или замазаны. — Как волка ни корми, он все в лес смотрит. А капиталист, даже самый хороший, прежде всего волк.
— Эх, когда-то уж переведутся эти волки! — горестно вздохнул Сажин, имея в виду не только двуногих, но и четвероногих хищников. Каждую зиму на их деревню совершают налет волчьи стаи и десятками губят овец. Теперь-то они совсем, поди, распоясались. Мужички на фронте, в деревне, кроме хромого Федьки, и охотников не осталось.