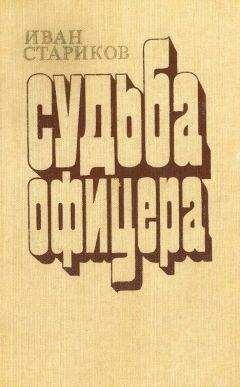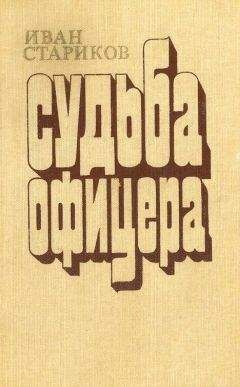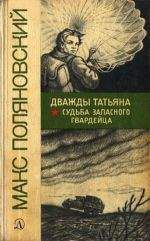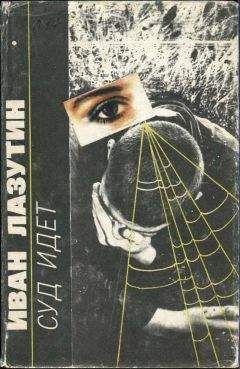Иван Стариков - Судьба офицера. Книга 3 - Освященный храм
— Мы помним. Вон какой памятник высится на площади!
— Да, памятник и вправду достойный. Но нельзя им откупиться. Да и воздвигнут памятник не для мертвых, а для нас, живых. Был у меня друг, вместе лежали в госпитале, вместе мечтали о жизни. Но он умер. Это ваш земляк, Герой Советского Союза Петр Негородний. Вы присылали за ним делегацию, он не поехал, вместо себя послал меня. Но почему о нем никто не вспоминает? Почему не перевезти прах Петра в родное село и не похоронить его в братской могиле?
Старая Прониха, присоединившись к толпе, слушала внимательно и напряженно, и как только Оленич произнес слова о Петре Негороднем, она, возвышавшаяся и так на целую голову над толпой женщин, привстала на носки, выкрикнула:
— И Ивана Пронова!
Народ качнулся сразу вроде от нее, потом все повернули головы к ней, а она двинулась через толпу к крыльцу, и люди расступались, давая ей дорогу. И все видели, может быть, впервые за много лет ее глаза, и печаль в них, и какую-то внутреннюю боль.
— Ты, солдат, будишь людскую память, — остановилась перед Оленичем, как судья перед истцом. — А как быть с такими, как я? Я ничего не забыла, что было со мной и что было со всеми. И своего мужа — красного командира и коммуниста — не забыла. А вот все на селе — забыли. Как быть мне, что нет в народе памяти о моем муже, погибшем… расстрелянном фашистами. Я уж не говорю про себя… Что я перед ним? Лишь частица его судьбы. Но и мне выпало… Да и всем нам — булатовским женщинам — досталось. Но и это забылось. Кто из молодых помнит как мы, голодные женщины, впрягались в плуги и бороны? Забылось, как мы ели лободу и тонконог, сушеные да толченые, но пахали и засевали поля! А сейчас Магаров прислал ко мне землемера и отрезал огород. Отмерил, как на могилу, и забил колья — не сметь ходить по земле! Вишь как, солдат, у нас расправляются с такими. Да ты погоди, и с тобой произойдет то же, что и со всеми: не перечь! Не мешай творить зло. Видишь, как вышло начальство к народу — настороженное, а вдруг пошатнется то, к чему привыкли? Оно словно говорит нам: «Мы лучше знаем, что вам надо!»
Добрыня, стоявший спокойнее других, перебил ее:
— Докия, чего ты колотишь людей? И с тобой разберемся.
Но Пронова не стала слушать его, повернулась и ушла сквозь толпу, расступившуюся словно вода.
Магаров пробормотал угрожающе:
— До тебя у нас тихо было.
Оленич огрызнулся:
— Кончилась тишина!
— Посмотрим!
Но не придал Оленич значения угрозам Магарова, он думал о Проновой, о ее судьбе и судьбе близких ей людей — мужа Ивана Пронова, офицера Красной Армии, и брата Феногена Крыжа — предателя. Знала ли она о том, что Феноген предатель, каратель, что он чинил расправы над советскими людьми и что до сих пор жив? Почему она неуважительно отзывается о брате? Потому, что знает, кем он был, или потому что знает, что он жив? О муже говорит, кричит о нем, а о брате молчит, ни слова. Не знает или утаивает?
«Надо обязательно, не откладывая, поговорить с нею, — решил Оленич. — Уверен, что с нею еще никто по-человечески не разговаривал о ее бедах и душевных страданиях». Но Магаров отвлек его от размышлений о Проновой:
— Вот что, деды и бабы, инвалиды и не инвалиды. Идите-ка по своим домам и не слушайте никаких баламутов. Колхоз наш делает для вас все, что может. А чего не может, того не делает. И требовать от колхоза больницы, топлива и пенсии — пустое дело…
У Оленича эта черствость Магарова обожгла всю душу, и он, чувствуя, что краснеет от гнева, не сдержался и на высокой ноте спросил:
— Как это — пустое дело инвалиду войны взывать о помощи? Вы, товарищ Магаров, забываете, что они воевали, защищая нашу страну! По призыву партии бились, не жалея себя! Кто же их будет лечить, если не сама Родина? Кто же починит им жилье, если не родной колхоз? Кто же обогреет им жилище, если не тот колхоз, землю которого они пахали и сеяли, впрягаясь в и сеялки вместо скотины?
— Ты мне тут не закатывай истерику! Тоже мне нашелся радетель за чужой счет.
— Мне лично от вас ничего не надо. Мне дано все что положено. Обидно за этих людей: вроде они помеха советской власти…
В это время к толпе подкатила «Волга», из нее вышел первый секретарь райкома партии. Он прошел на крыльцо, спросил у Магарова:
— Митинг? По какому поводу?
Магаров даже обрадовался, что приехал первый, и, указывая на Оленича, объяснил:
— Да вот приезжий инвалид мутит людей.
— Так пусть уезжает, откуда приехал.
— На постоянное местожительство к нам. На учет стал. Райком же дал ему прикрепительный в нашу парторганизацию.
— Так чего ему не сидится? Приехал лечиться, пусть лечится. И не лезет в колхозные дела. — Нашел глазами Оленича, поманил пальцем к себе, но Андрей почувствовал неблагоприятную для себя атмосферу, не стал подходить, а остался стоять на краю крыльца, возле бокового столба-опоры. Тогда секретарь громко спросил: — Кто разрешил собрать людей?
— Инвалидов войны разрешил собрать сельсовет, — твердо ответил Оленич, смело глядя на секретаря.
— Какое ты имеешь к ним отношение?
— Я такой же, как они! — с вызовом проговорил Оленич и подошел ближе к инвалидам.
Он видел, как секретарь райкома наклонился к Магарову и что-то сказал, но не слышал его слов. А сказано было такое:
— Он что, ненормальный? Может, шизик? А?
Магаров только поднял и опустил плечи в ответ, не сказав ни слова.
— Товарищи, — обратился секретарь к инвалидам, — все вопросы в одном селе, в одном хозяйстве не решить. Мы знаем трудности жизни инвалидов. Обещаю вам, соберем всех вас со всего района и поговорим обо всем наболевшем. Только всем районом, как говорится, всем миром можно что-то сделать. Расходитесь спокойно по домам.
И руководство колхоза вместе с секретарем райкома пошло в контору. Толпа молчала. Оленич чувствовал себя виноватым перед теми, кого созвал, и перед теми, кто пришел посмотреть и послушать. Не сговариваясь, все молча пошли к обелиску. И только Пронова прошла мимо, не поднимая головы.
15
Это необычайное лето — солнечные, ясные дни, по утрам влажный морской ветер и степной сухой воздух, напоенный запахом трав и цветов, — казалось, никогда не кончится, и он, Андрей, с упоением наслаждался жизнью. «Тебе безумно повезло, капитан! — подбадривал себя Оленич. — Ты просто возрождаешься из пепла, как птица феникс!»
По давней армейской привычке утром он просыпался за несколько минут до шести. Быстро собирался и вместо зарядки спешил к морю, пока было мало людей. Но по утрам он долго не задерживался в воде — она была еще прохладной, и он побаивался, а вот по вечерам, когда вода за день нагревалась, он барахтался в ней подолгу и с наслаждением. Он загорел за эти месяцы, мышцы налились тугой силой, но силой иной, не похожей на ту, которая вливалась в его тело от укрепляющих таблеток а уколов, от усиленного питания. Это была сила самой природы, и он жил все время в предчувствии еще большего счастья.
Откуда-то послышались наигрыши гармошки… Кто это так рано? Он вспомнил, что надо отправлять ребят в армию. Первыми идут Генка Шевчик и Мирон Серобаба. Надо бы побывать у них на проводах. Одевался и обеспокоенно размышлял: еще только восемь часов, а уже песни и неуверенные переборы гармошки. Неужели сидят за столами?
По дороге к сельсовету в боковой улочке увидел празднично одетых людей, которые толпились возле двора Антона Серобабы, колхозного ветеринара. Двухрядка заливалась, выводила танцевальную мелодию, доносились возбужденные мужские и женские голоса. Посреди толпы образовался круг, в котором танцевало несколько молодых пар. Ворота были раскрыты настежь, во дворе стоял длинный, сбитый из досок стол, уставленный закусками и десятками бутылок и бутылей. Сидело человек пятьдесят — все пили, ели, громко разговаривали, а в конце стола — сам виновник торжества, Мирон. Вид у него был утомленный, все тянулись к нему стаканами, каждый старался наставить новобранца своим напутствием, и он кивал каждому и улыбался. А его отец, Антон Сергеевич, стоял на высоком пороге своего дома и следил за всем, что делается вокруг. Вот он увидел Оленича, заторопился ему навстречу, сияя от самодовольства и пошатываясь от выпитого:
— О, капитан! Проходи, будешь дорогим гостем.
— Свадьба? Или веселые поминки?
— Не обижай, капитан! Сам ведь знаешь: сына в армию провожаю. Ничего не жаль! Вот уже второй заход. Те, которые веселятся, уже были за столом… Может, удастся и третий раз садиться. Вот никак пятипудового поросенка не прикончим. Садись, капитан, помогай!
И Мирон, покинув гостей, подошел к Оленичу:
— Говорил я, что не надо бы этих проводов. Так отец и мать обижаются, говорят, что хочу их опозорить. Пожалуйста, не ругайте их! Посидите хоть пять минут, выпейте одну чарку.
— Нельзя мне, Мирон, — ответил парню Андрей. — Нельзя. Но я тебе желаю хорошей службы. Буду ждать от тебя вестей, благодарностей от командования. Служи!