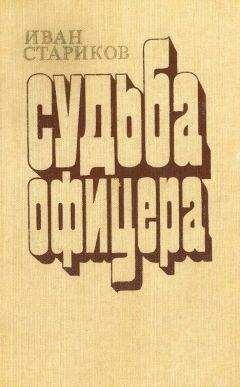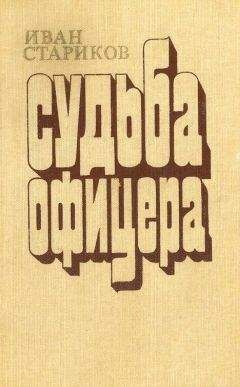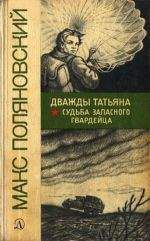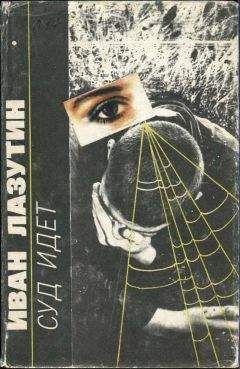Иван Стариков - Судьба офицера. Книга 3 - Освященный храм
— Тебе и горя мало, — стала ему жаловаться, — не заступишься, не защитишь. Слова не скажешь. Утешение ты мое бессловесное! Другие из могил повыходили, черт-те откуда повыпрыгивали, чтобы улечься в братскую могилу и оставить фамилию на памятнике. А ты жил незаметно и погиб в безвестности. И никакого следа не осталось от твоей жизни… Несправедливость людская — темная ночь…
Встала на кровать коленями, краешком вышитого рушничка, обрамлявшего рамку с карточкой, вытерла стекло. Вздохнула, слезла с кровати, подошла к окну и увидела несколько колышков на огороде. Голос задрожал:
— Наверное, излишек признали… Глупые люди! Излишней земли не бывает. Она не может быть лишней! Эх, Иван, Иван! Почему ты не разрешил рассказать правду о тебе, о нас с тобой? — снова повернулась к портрету. — Ты говорил, пока твои командиры не откроют правду, люди не поверят. А как мне молчать? Вон какой памятник погибшим… Каждого имя там, а тебя вроде и не было никогда на земле… Как мне молчать? Хоть бы в тени того памятника дали бы тебе место. Некуда мне голову преклонить… Одно дело — всем, а другое — тебе, моему соколику ясному… Не буду молчать! Сил моих нет! Смерть подходит, а я тебя еще не открыла людям!
Накинула на голову темный платок и вышла из хаты. Она шла по широкой тихой улице, не торопясь и не горбясь, и смотрела зорко вперед, точно видела цель и к ней устремилась. В селе привыкли к тому, что она по улицам пробегала, сгорбившись и не глядя по сторонам, и люди так и говорили: «Прониха прошмыгнула!», а кое-кто даже ведьмой ее называл, ею пугали детей. Да и взрослые не только недолюбливали ее, но и побаивались: в ее стремительной походке всегда было что-то тревожащее, беспокойное. Она и сама замечала, что за нею следят, не было исключением и это ее появление на центральной улице, куда она заглядывала редко — только в магазин да в клуб, где убирала. Шла и думала: «Забили колья в мою душу! Ишь, Шевчик считает, что несправедливо! А ты бы пошел к Магарову да ему сказал, а не мне!»
И вдруг она остановилась, пораженная и испуганная: из за угла со стороны сельсовета выходила цепочка инвалидов. Впереди шел в офицерском кителе человек без ноги, он шел, опираясь на костыли. На его груди сверкали медали и орден Красной Звезды. А за ним, постукивая палочкой о дорогу, шел Савва Затишный в черных очках, и рядом с ним — мощная фигура Бориса Латова! Это невиданное зрелище: Борис идет смирно в ряду с калеками войны! Потом она увидела Устина Орищенко, Гречаного, Поричного. Шла в ряду со всеми и Ольга Коровай. А в конце шествия тарахтела мотоколяска Тимофея Потурнака. И все при орденах, и все приодеты в чистое. В чистое, но не новое — в старое и выношенное, и от этого было еще горше смотреть на эту жалкую кучку людей.
Пронова схватилась костлявыми руками за седую взлохмаченную голову и закричала. Ее крик был криком отчаяния и беды и, казалось, пронесся словно черный столб смерча через все село. И как только эхо ее крика закатилось куда-то в степь, так послышался стук протезов и стук костылей, слабый перезвон металла наград, покашливание да трудное дыхание идущих по пыльной сельской улице. Жуткая процессия двигалась медленно, и было такое впечатление, что идут люди в своем последнем параде. Кто в селе не знал их, инвалидов, каждого в отдельности? Наверное, знали все. А вот вместе их еще не видели. И поэтому от двора ко двору понеслось-полетело: инвалиды идут! И этот возглас возвращал память людей в прошлое, когда кончилась война и все ждали своих воинов — кого из действующей армии, кого из госпиталя, кого из плена. Слова «Инвалиды идут!» звучали с потрясающей силой. И как прохладный ветер с моря остужает разгоряченное тело и наполняет свежестью дыхание, так и это событие пронеслось очистительным, вызывающим милосердие ветром. Настежь раскрывались окна и двери, народ выходил на улицу. Женщины стояли, пригорюнившись и подперев пальцами щеки, а дети бежали следом за вереницей старых воинов, убеленных сединами и украшенных блеском наград. Мальчишкам особенно было интересно: ведь они раньше не видели орденов и медалей у дедов их села. И никто в селе вовсе даже не предполагал, что у того же матроса Бориса Латова может быть три ордена и пять медалей!
Шли бывшие воины по селу, держали они путь к колхозной конторе, тихо переговариваясь между собой, и вроде совсем не замечали, что делается вокруг них. Правда, они дивились, что возле правления уже собрался народ — возбужденный, ожидающий, настороженный. Люди, которых все считали просто калеками, предстали в ином виде! Незаметно на лицах булатовцев улыбок, не слышно было насмешек, наоборот, в каждом взгляде притаилась незнакомая, а может, уже забытая задумчивая грусть, размышление над своей собственной жизнью. Слышались вздохи, какая-то из женщин всхлипнула. И не в одном сердце шевельнулось: рядом живем и не знаем, каково им, этим нашим старикам-инвалидам? И не одной женщине подумалось: здоровые, молодые мужики пьют водку, ленятся работать, растаскивают потихоньку колхоз, а эти вот, забытые и забитые, наверное, горюют при виде всего, что делается в селе. И каково им, построившим и отстоявшим на войне ее, эту жизнь, видеть все в таком состоянии. И какой бы она ни была раньше, но то была их жизнь, и она была для них трудной, но понятной — они преодолевали трудности и недостатки, переносили голод и выстояли в войне, жили с надеждой на лучшие времена. Как им понять нынешние недостатки, и отверженность, и всякие иные трудности? Неужели нет даже надежды и нечего ждать?
Оленич раньше думал, что ветеранам, и в особенности инвалидам, тяжело оттого, что они как неприкаянные: колхоз, село обходятся без них. И надо только их поддержать оптимизмом, найти что-то такое, чтобы каждый увидел, убедился, что его жизнь прошла недаром, что все хорошее, что есть, пошло от них к молодым. И он, Оленич, поможет им обрести этот оптимизм и уверенность, что все здоровые силы села — правление колхоза во главе с Магаровым, сельский Совет с депутатами, партбюро и комсомол — обратят больше внимания на них и скрасят остаток их дней. С этим он шел во главе колонны, за этим он вел инвалидов. И ему казалось, что ведет он их к жизни, уводя от раздумий о своей ненужности и о смерти.
На крыльце конторы колхоза уже стояли, предупрежденные об уличном шествии инвалидов, Магаров, Добрыня, Пастушенко. Оленич поздоровался с начальством, сказал Магарову:
— Впервые собрались эти старые воины вместе. Решили посоветоваться с вами, как жить дальше? Много у них накопилось трудностей, жизнь не очень их балует. У вас, конечно, забот хватает, но и забота об этих людях тоже входит в круг ваших обязанностей, как я понимаю.
Магаров стоял мрачный и бледный, он сдержанно поздоровался с пришедшими, потом сказал Оленичу, еле сдерживая гнев и раздражение:
— Кто тебя просил устраивать эту демонстрацию? Попугать людей? Настроить их против руководства? Без согласования с партбюро, да и сельсовет, как я понимаю, не предусматривал этот поход.
Магаров смотрел на Оленича требовательно, сурово, в черных зрачках его серых глаз сгущался затаенный гнев, даже ноздри шевелились, словно вот-вот повалит из них дым и пламя.
— Да не смотрите на меня с таким негодованием! — воскликнул Андрей. — Простая вещь происходит — люди не по одному идут к вам со своими заботами, а пришли все вместе, чтобы посоветоваться, сообща решить, что делать, чтобы улучшить житье-бытье инвалидов войны. Или прикажете нам разойтись?
Добрыня, видимо, понял, что перепалка может принять нежелательный оборот: колхозников возле конторы собирается все больше и больше, и если в разговор вмешаются все, тогда не сладишь с ними.
— Поговорить есть о чем. Но не на улице же? Николай Андреевич, приглашайте инвалидов в кабинет.
Но Магаров не понял маневра секретаря партбюро и отрезал:
— Нечего делать в кабинете! Выкладывайте здесь, что вам нужно? И не мутите людей, а то по головке не погладим.
— Мы и не думали мутить людей, — начал Оленич и не заметил, как его голос приобретал твердость и категоричность. — Мы хотим только, чтобы всем миром создать нормальные условия для жизни этой вот горстке людей. Разве эта просьба кого-то обижает, кроме самих инвалидов? А еще мы бы хотели, чтобы ваши сердца не были холодными и равнодушными к горестям и бедам других, не забывайте годы войны и то страшное лихолетье. Детям и внукам рассказывайте, что довелось пережить и перетерпеть нашему поколению. Если мы забудем о погибших братьях, если станем равнодушными к искалеченным, то потеряем и честь, и совесть, и не останется у нас ничего святого.
По толпе пронесся шепот. Женщины уже смотрели на инвалидов жалостливо и милосердно. Пастушенко, чтобы перебить Оленича, вставил несколько слов, которые должны были смягчить резкость только что сказанного:
— Мы помним. Вон какой памятник высится на площади!