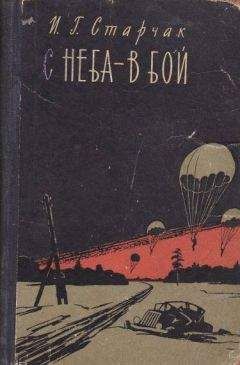Исай Лемберик - Капитан Старчак (Год жизни парашютиста-разведчика)
Шла подготовка к действиям в тылу врага. Заново комплектовались взводы и роты: прибыли дополнительные группы добровольцев с комсомольскими путевками; было доставлено вооружение, мины, радиостанции, парашюты; интенданты привезли легкие, но теплые куртки и брюки, меховые шапки и рукавицы, валенки, шерстяное белье… Да и пора бы: стояли холода.
Старчак, Щербина, Кабачевскйй, вернувшийся из рейда в тыл врага, подрывник Сулимов и другие офицеры по шестнадцать часов в сутки проводили занятия с парашютистами.
Ноябрь стоял холодный, и теплая одежда, которую выдали парашютистам, пришлась очень кстати.
В первых числах ноября, как уже было сказано, наступили зима. Она, в отличие от других времен года, наступает внезапно, без разбега, как снег на голову. Так было и в сорок первом.
Весь месяц капитана не оставляло чувство тревоги: он не знал, кто из товарищей, сражавшихся на Угре, жив. Неизвестной оставалась судьба группы, ушедшей вместе со старшим лейтенантом Левенцом, о котором так горевала Саша Кузьмина. Не поступало сведений и о том, живы ли десантники, высадившиеся в глубоком тылу врага еще в сентябре. Хорошо еще, что парашютисты, возвращавшиеся после выполнения заданий, могли узнать в Москве, где теперь находится отряд.
Зима
Село Добринское, в котором размещался отряд Старчака, — всего в нескольких километрах от Борисовского, где находилась наша редакция, и я чаще, чем летом и осенью, бывая у парашютистов.
Редактор даже упрекать стал:
— Что зря ходить. Все равно писать про них не разрешают. Медом, что ли, тебя там кормят?
Но, побывав несколько раз у Старчака, он сменил гнев на милость:
— Хоть и нет отдачи, а все же не без пользы.
Я знал, конечно, что Старчаку некогда, и поэтому больше наблюдал, чем расспрашивал.
Я видел, что участники сражений на Угре и Извере, десантники, побывавшие в тылу врага, стали тем ядром, вокруг которого сплачивались новые бойцы, прибывавшие в отряд почти каждый день из Москвы, Горького, Владимира, Иванова с путевками Центрального Комитета комсомола.
Новички с уважением смотрели на бывалых парашютистов, увешанных трофейными маузерами и автоматами, поглядывали на ордена и медали, которых удостоились десантники. А награждены были почти все участники боев на Варшавском шоссе.
С большой гордостью носил на груди медаль «За отвагу» Улмджи Эрдеев. Куртка у него всегда была расстегнута, и медаль всем была видна. Теперь бы Мальшин не рискнул предложить Эрдееву для чистки свой автомат.
Демин, похаживая в своей хорошо пригнанной брезентовой куртке на меху и в теплых шароварах, заправленных в валенки, говорил новичкам:
— Зимой прыгать одно удовольствие — ноги не отшибешь.
А потом спрашивал:
— Ты городской или деревенский?
— Деревенский.
— Значит, непременно с бани в сугроб нырял. Ну вот, считай, что есть навык. Только баня у нас повыше.
Однажды я слышал, как Демин рассказывал про свой первый прыжок:
— Сперва совсем не страшно было. У нас, в Кольчугине, парашютная вышка, так что я частенько с нее прыгал. Ну, как вы — с бани… Ну, думаю, так же легко прыгну и с самолета. Но вот когда поднялись в воздух и я подошел к двери и глянул вниз, у меня даже голова закружилась. А ведь первым вызвался… Ну, думаю, двум смертям не бывать. Зажал покрепче кольцо, зажмурился и прыгнул.
— А потом?
— А потом парашют раскрылся, тряхнуло меня, стропами по щекам хлестнуло, но страх прошел. Приземлился довольно удачно, парашют только погасил не сразу, так что пришлось проехаться на животе по картофельному полю. И хорошо бы вдоль борозды, а то и поперек. На неделю аппетита лишился…
Уступая просьбам новичков, Демин выкладывал все новые и новые истории. Рассказал он, как однажды, выполняя учебное задание, выпрыгнул на опушке леса. Пока дожидался товарищей, съел плитку шоколада — часть неприкосновенного запаса. А потом капитан Старчак сказал: «Ты с этим пайком в тыл отправишься. Малых детей лишили шоколада, чтобы тебе отдать. Может, эта плитка тебя от голодной смерти спасет. Эх ты, лакомка!..» И Демин продал свой серебряный портсигар с оленями на крышке, а на вырученные деньги купил где-то втридорога плитку «Золотого ярлыка».
— Хорошо еще, что я ни глотка спирта из фляжки не выпил. А то бы Старчак меня наверняка отчислил. Не терпит он пьяниц. «Эх ты, скажет, слабак… В обозе второго разряда такому место. Исключить из списков!..»
Демин не преувеличивал, говоря о нетерпимости Старчака к пьяницам.
Как-то десантник Линовиченко ушел самовольно в другое село, раздобыл там самогонки, напился, палил из автомата…
Старчак сказал, что не может доверять пьянице. Приказал арестовать его на десять суток, а потом отчислить в другую часть.
Командир роты, в которой служил Линовиченко, стал просить Старчака отменить решение:
— Пить он больше не будет — ручаюсь за него! Старчак посмотрел на Щербину. Тот пожал плечами:
— Надо отчислить, но если командир так просит…
— Вот, не проявили твердости, — вспоминает Старчак, — и до сих пор жалею. Подлец в быту — подлец в бою.
Речь шла о том самом Линовиченко, о котором Старчак сказал мне с пренебрежением: «Был такой…»
2При тех наших давних встречах я не раз просил капитана рассказать о своей юности, о том, как начинался его жизненный путь, но он все отказывался, ссылаясь на занятость.
Я заметал: Старчак, когда речь заходила о нем самом, старался либо уйти куда-нибудь, либо, если это не удавалось, переводил разговор на другую тему.
Наконец однажды, когда я «нажал» на него особенно сильно, Старчак сказал, что как только он выберет свободную минуту, напишет о том, что меня интересует.
И верно, Старчак сдержал слово. Но случилось так, что я долго не заезжал к парашютистам — мы улетели на другой аэродром, — и эти несколько страничек ко мне не попали. А капитан, видимо, решил, что надобность в них миновала.
Эти листки, написанные зимой сорок первого года, я взял у Старчака недавно. Помещаю их в этой главе.
«Есть у каждого человека дни и события, которые он хранит в памяти всю жизнь. У одних их; больше, у других — меньше. Но они, эти события, обязательно есть. Другое дело — их важность, значимость, что ли. Это уж от самого человека зависит. Если он в стороне не стоял — большие события и на его долю выпадали, и место он себе в жизни выбрал, и может надеяться, что пользу людям принес, пусть даже самую маленькую.
Для меня местом в жизни была и есть армия, в которой я служу больше двух десятков лет, с мальчишеской поры.
Родился и рос я в большой трудовой семье. Отца забрали в 1915 году на фронт, откуда он больше не вернулся. Семья в шесть человек осталась на руках матери-рыбачки. Стоит ли рассказывать о наших достатках, вернее недостатках, если в такой семье один добытчик — мать. Вот и пришлось мне бросить школу и начать, громко говоря, трудовую жизнь.
Сразу же после империалистической началась гражданская война. У нас в Забайкалье — я уроженец Полтавщины, а вырос на Востоке — позже, чем на Западе, удалось с белогвардейцами расправиться. В наших краях действовал ставленник японских империалистов — атаман Семенов.
Много было его бандой захвачено пленных — всех он их у нас в Кяхте уничтожил. Не одну сотню безоружных людей порубили бандиты. Видели рабочие эту расправу и думали: «Придут наши — за все отплатят». А пока к восстанию готовились, оружие раздобывали, отряды сколачивали.
Ну, сказать по совести, я с братишкой Сережей не очень-то участвовал в подготовке восстания, но все-таки. В один из зимних вечеров пришла к нам в дом соседка Шишмарева, хорошо известная в городе еще по первым дням революции. Обязав нас доверием, она дала задание — нашить на красное полотнище лозунг: «Вся власть Советам!» Это на одной стороне знамени, а на другой: «Мир хижинам, война дворцам!»
На масленицу по городку разнеслась весть: «На Соборной площади будет митинг — с требованием о выводе оккупационных войск». Я не написал, что после ухода семеновских банд их сменили войска китайского белогвардейского генерала, не помню уж его фамилию.
В полдень все направились на Соборную площадь, но там уже был белокитайский батальон. Его направили сюда якобы для защиты банка.
Жители города не устрашились. Они шли и шли на площадь. Потом, когда в соборе кончили служить обедню, вышли на площадь молившиеся — и все стало запружено народом.
Белокитайский офицер предупредил, что, если толпа не разойдется, он прикажет стрелять.
В это время вдалеке послышался шум: это вооруженный отряд рабочих пытался пробиться на площадь.
Вдруг над толпой взмыли знамена, и среди них то знамя, на которое мы с Сережей нашили буквы: «Вся власть Советам!»
Офицер отдал солдатам команду, не слышную за шумом толпы. Мы увидели, как одна шеренга солдат легла, вторая опустилась на колени, третья изготовилась к стрельбе стоя.