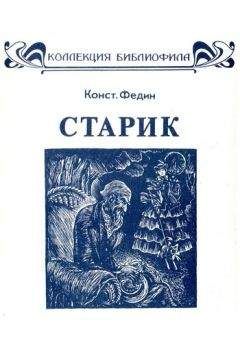Александр Лебеденко - Тяжелый дивизион
— Пробовали.
— Но германские солдаты еще нигде, к сожалению, не выходили из повиновения своим офицерам. Они братаются только там, где им разрешают, и проделывают это под надзором своих командиров. Теперь заметьте, когда наши приходят в немецкие окопы, их не пускают в траншею, их ставят спиной к укреплениям. А когда немецкие офицеры и унтер-офицеры приходят с фотографическими аппаратами в наши окопы, они щелкают где хотят и что хотят и снимающихся всегда рассаживают, чтобы на снимке вышли укрепления, пулеметные гнезда, ходы сообщения. В тех местах, где у них стоят некрепкие части — ну, там, славяне: чехи, галицийцы, поляки, — они братающихся встречают пулеметным огнем. Вот как обстоит дело. Разрешить сейчас брататься — это значит показать немцам, куда им следует бить в случае наступления. Они поснимают, поснимают, а потом и обрушатся на наши окопы артиллерийским огнем. Нам же хуже будет. Брататься — это значит подрывать оборону нашей страны.
— Так растолковать это всем, а то зачем же стрелять? — сказал внимательно слушавший Григорьев. — Вот так, как нам говорите.
— Так и делается. Но часто брататься ведут солдат шпионы. Потом нельзя же уговаривать, когда уже немцы придут в окоп. Ну, видимо, в крайнем случае придется попугать… снарядик, другой. Ничего не поделаешь. Мы ведь войну не кончили.
Голоса разделились. Предложение Шнейдерова прошло гнилым большинством в четыре человека.
— Моральную победу мы одержали, — шептал Шнейдеров Скальскому. — Но, по-видимому, с огнем играть не стоит. И стрелять нам все-таки не придется.
— Прикажут — я стрелять буду, — отрезал подполковник.
— Не станут…
— Сам с офицерами заряжу орудия и покажу кузькину мать и своим, и чужим.
— Я в таком случае снимаю с себя ответственность…
Скальский заложил руку за борт кителя, выпрямился и соединил каблуки.
— Рассчитываю только на себя…
Узнав о решении, Петр взобрался на зарядный ящик и кричал на всю батарею:
— Наших ребят не было, и на первой батарее протащили постановление о том, чтобы мы из своих гаубиц, — он показал пальцем на ближайшее орудие, — расстреливали братающихся. Хотят вас скрутить в бараний рог, ребята. Это командир первой батареи орудует. Ему все хочется царские порядки вернуть.
— Зачем такого командиром дивизиона назначили? — кричал Багинский.
— Вас не спросили, — сказал Осипов.
— И спросят, — спокойно ухмыльнулся Бобров. — Все к тому идет, что командный состав выборный будет.
— Кольку Багинского батарейным выберем, — смеялся, сидя на лафете, телефонист Сонин.
— А ты зря ржешь. Может, и выберем, — напустился на него Стеценко. — Вот в одной бригаде Второй армии командира батареи в кашевары разжаловали. И что же думаешь — и поставили. Целый день у кухни стоял. Едва начальство его уволокло куда-то.
— Кашеваром? Вот здорово!
— К чертям таких кашеваров, — сказал Бобров. — Кашу придется пригорелую лопать. Они ничему не приучены. Только папиросками пыхтят да матерь поминают…
— Давайте, ребята, постановим — не стрелять, и баста.
— Не стрелять, так не стрелять, нам еще легче.
— А ты подходи к делу с принципом.
Офицеры узнали о новом решении солдат второй батареи от вестовых.
Кольцов нервничал:
— Вот получишь приказ и делай что хочешь. Легче было в Галиции, чем теперь. Без солдат стрелять не будешь.
— Тоже порядочки, — возмущался Архангельский. — То решают стрелять, то не стрелять.
И только Перцович ходил размашисто по площадке перед блиндажом, хлопал по-мальчишески в ладони и кричал:
— Эх, энергию девать некуда. А силы! — Он шлепал себя по бицепсам. — Кажется, горы бы перевернул!
— А что, разве гор подходящих нет? — язвил Зенкевич.
— Зарядите пушку, — предлагал Горский, — да и ахните во славу интернационального анархизма.
— Идите вы к черту! — злился Перцович и уходил сам.
Все эти дни на всех батареях от Крево до Сморгони ждали, что случится, если все-таки будет отдан приказ стрелять.
Полковники в одиночестве, волнуясь, раскладывали пасьянсы, молодые офицеры спорили и ссорились.
Петр, Берзин, Бобров готовятся к схватке.
— В пехоте бы и разговоров не было, — говорит бывший леснеровец Бобров. — Все-таки мы еще плохо раскачали ребят.
— Не будут стрелять земляки, — уверял Берзин.
— Я тоже думаю, не будут, — вслух размышлял Стеценко. — А все-таки нельзя сказать, что будет, если офицеры потребуют твердо… Комитеты за начальство… А у нас много таких, как Ханов, Сухов, Чутков. Они за кружкой чая про революцию галдят… а если офицер цыкнет — руки по швам. Как крепкий мужик, так от него не жди революции. Он тут только пересиживает. А его все нутро туда тянет, к хозяйству. Только бы целым да без суда вернуться… А такие, как Федоров, Сонин, — лихие ребята, но никогда не знаешь, что они сделают. И с нами, и с Горским путаются… Поругаться, поспорить — они мастера, а вот чтобы линию провести — не жди.
— Хрюков — парень хороший, к нам здорово тянется, — заметил Берзин.
— И еще есть… Надо, ребята, за землячков взяться… Которые, видимо, наши будут. Каждого поодиночке… — твердит Бобров. — Каждого нужно рассмотреть… в чем его суть… Кто чем болеет… и по сути и вдарить.
— А я так смотрю, как начнется какая буза, враз всех к нам качнет.
— Это само собою, — говорит Бобров. — А работа само собою. У нас на заводах всегда так — кружки там… собираются разные, а потом, глядишь, все в одну сторону гнут.
— Это у вас, — вспомнил Петр Бабурин переулок. — Ну, тут народ не ваш, фабричный, а больше наш — деревня да местечко. Эти больше с накалу…
Шли дни, приказа о стрельбе не было.
О наступлении в армии больше не говорили. На плакатах, на займах, в газетах, в письмах, в речах, в повестках комитета запестрело слово «оборона». Круглое слово, удобное, как колесо, никого им не раздразнишь. Само собою казалось: оборона есть оборона. Кто же запретит обороняться?..
Об обороне говорили в полках офицеры, стараясь сколотить поредевшие от дезертирства ряды. За оборону распинались комитетчики, уговаривая полки в очередь занимать участки фронта. Об обороне толковали и те, и другие, когда солдаты, узнав, что в кухне чечевица на льняном масле, грозили перевернуть бак и избить кашевара.
Слово кружилось, мягкое, бесформенное, и тихо, день за днем, без команды, как по таинственному сговору, офицеры и комитеты, ставшие, как никогда до того, союзниками, пытались вокруг него крепить остатки дисциплины. Отовсюду неслись вести о полевых судах над дезертирами, об арестах большевиков, о каторжных работах для тех, кто громко требовал мира во что бы то ни стало.
Если раньше офицеры радовались возможности пережить день без спора, без стычек с солдатами, в плохом мире, то теперь и солдаты рады были тому, что начальство ведет себя смирно и никого в дивизионе не арестуют за прошлое. Дни шли, тусклые своею скрытой злобой, похожие на дни в большой некрепкой семье перед вскрытием завещания.
Худой мир был сорван вестями о взятии Риги.
В офицерских палатках, блиндажах весть о падении Риги ударила похоронным колоколом. Все почувствовали себя еще неуютнее.
— Доигрались! — кричали офицеры. — Теперь путь на Петроград открыт.
— Может, к лучшему? — тихо шептали в углах одиночки.
Горелов выскочил с газетой на батарею, созвал солдат, прочел телеграмму и стал доказывать, что после Риги каждому должно быть ясно: на долгое перемирие с немцами рассчитывать нечего. Они увидели, что им нетрудно занять хоть пол-России, и не сегодня-завтра попрут на Питер, на Москву.
— Обороняться надо изо всех сил. Если мы немцам хоть раз наложим — ведь у нас такая артиллерия! — можно будет предотвратить новое большое наступление.
Но солдаты ответили на известие неожиданно и резко.
«Пантофлёва почта» разнесла по рядам слух, что Ригу сдали сами генералы, чтобы отомстить комитетам, показать, что армия при новых порядках никуда не годится. Солдаты этой версии поверили сразу и накрепко.
Офицеры были обескуражены.
Батарейцы волновались, у блиндажей в передках собирались группами. Вестовые на ухо сообщали офицерам о том, что солдаты ругают на чем свет стоит все начальство: и генералов, сдавших Ригу, и своих, и что на батарее «очень нехорошо»…
Ранним утром бабахнуло легкое орудие за холмом.
Все проснулись и быстро, как по команде, стали натягивать сапоги. За последние недели все отвыкли от гула орудий.
На второй батарее лениво проскрипел телефон.
Скальский приказывал открыть огонь по немецким окопам. Большие партии русских солдат вышли за проволоку.
Щеки Кольцова заалели сквозь густую щетину небритой бороды.
— Зови Ягоду, Осипова и Щуся! — крикнул он Станиславу.