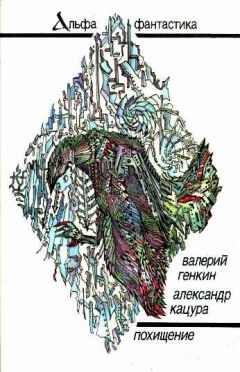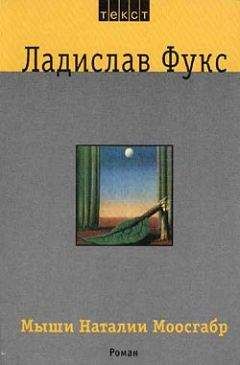Ладислав Мнячко - Смерть зовется Энгельхен
— Я не мог поступить иначе. Это был мой долг. Он, тот человек, грозился, что донесет и на меня. Но почему вы именно меня спрашиваете? Тамошний рихтар[3] все знает.
— Мы хотели бы узнать все именно от вас, а не от рихтара.
— Поверьте, это была самая страшная минута в моей жизни. Я ведь тоже патриот…
— Вздор! На вашей совести пять партизанских жизней, ведь это вы донесли немцам, где они скрываются, вы и немцев туда привели. Мы хотим знать от вас, кто предал! Это для вас единственная возможность оправдаться.
— Для чего вы хотите уничтожить меня?
— Довольно, Поспишил. Имя! Либо висеть будет этот негодяй, либо вы. Наши законы строги… И от нас вам не убежать.
— Пусть рихтар скажет!
— Вы скотина, Поспишил. Рихтара мы тоже спросим, но вот вы пытаетесь свалить все на другого. Имя — или вы не встанете из-за этого стола.
— Это уж нахальство! И так это вам не сойдет. Вот посмотрите! Заманили меня сюда!
— Я целюсь вам в живот, Поспишил. И я вам его продырявлю! Знаете, каково это? У вас будут прострелены почки, кишки, начнется медленное кровотечение — это страшная смерть. Вы сами жандарм, в таких вещах разбираетесь.
Жандарм позеленел. На лбу у него выступил холодный пот. Он пробормотал что-то невразумительное, потом назвал имя.
— Конечный, говорите? Конечный, значит, а как звать его? Кто он? Где живет?
— Не знаю. Не скажу. Вы бандит, убийца.
— Скажете, Поспишил. Как звать его, чем занимается, какой номер дома. Ведь вы все это на память знаете.
— Звать Иозеф, он конюх, живет в доме тридцать семь…
Для меня было вполне достаточно.
— Да, вот еще что, Поспишил. Если со мной или с кем другим — вы знаете, о ком я говорю, — что-нибудь случится…
Но я видел, что опасения мои напрасны. Ничего не случится. Собственно, будет вот что: после войны на суде он скажет, что открыл опасного предателя. И попытается доказать этим свои патриотические чувства. Вот какой это человек. Мразь, а не человек.
— Что же, до свиданья, пан урядник. Отлично мы поговорили.
Я шел назад безлюдными темными улицами. Меня давила тяжесть воздуха оккупированного края. Ни души, все попрятались в самые отдаленные углы, замкнулись в одиночестве, никому не верят; здесь, в этом городе, одного из наших товарищей предала жена — он нарушил приказ и «забежал домой», а потом ее нашли на чердаке в петле… Тихо, пусто, Темно, но я чувствовал, что эта тишина обманчива, сотни глаз следят сквозь щели в маскировке за всем, что происходит на улицах. И меня вот сейчас видят, и обо мне раздумывают — кто я, что? Шпик? Гестаповец? Подпольщик? Недоверие и напряжение достигли предела. Навис страх. Человек человеку стал врагом. Мы там в горах часто спим на снегу, делаем сорокакилометровые ночные переходы, едим вареную говядину, если она у нас есть, часто без соли, и все же нам лучше, наша жизнь достойнее, мы свободны. И пусть это покажется странным — у нас больше надежды пережить эти последние недели войны.
На площади мне попался немецкий патруль. Пятеро с автоматами — двое на левой, трое на правой стороне площади. Мне нечего было опасаться, но сердце забилось быстрее. Я старался пройти мимо них незаметно. Немцы на меня и не взглянули, в их обязанности не входило следить за единичными пешеходами. Но на жителей города эти ночные патрули действуют отнюдь не ободряюще. Поэтому никто не выходит по вечерам.
Марта пришла поздно. Она была усталая, истомленная, как будто жизнь ушла из нее. Я хотел подойти к ней, обнять, она отстранилась.
— Нет, нет… сначала я вымоюсь.
Она что-то скрывает от меня, что-то дурное, по ней это видно, это давит ее. Что это? Страх? Реакция на напряженную подпольную работу и волнения, связанные с ней? Вдруг я подумал: а сколько ей лет? Иногда она кажется стареющей, с погасшими глазами, и это не только усталость — что-то худшее.
— Сколько тебе лет. Марта?
С ней надо быть очень осторожным, она сразу понимает, куда я клоню.
— Теперь быстро стареют, Володя. Я не знаю, сколько мне лет. По паспорту двадцать четыре. Но иногда мне кажется, что я так опустошена, смертельно опустошена… Иногда это бывает, Володя.
Она ничего больше не сказала, а я не настаивал. Скажет когда-нибудь. Скажет мне, что ее мучит.
Она уже пришла в себя, лицо ее снова озарилось особым очарованием, в глазах появился свет, и я снова мог погружаться в их глубину. Мы смотрели друг на друга, взявшись за руки.
— Я так счастлива, Володя… Я никогда не думала, что может быть такое счастье…
Она убежала в ванную. Я не мог дождаться ее, плеск воды в ванне дразнил меня.
Мы не спали, всю ночь просидели на полу, не в силах оторваться друг от друга. Но она оставалась закрытой для меня, и я старался, миллиметр за миллиметром, открыть ее, узнать. Я рассказывал ей о себе, рассказывал о концлагере и ждал, что вот-вот она оставит свою осторожность, ответит тем же, но она молчала. Мне все казалось, что она заговорит, но нет, она все время отводила разговор от себя. Что-то тут кроется, и я узнаю что!
Это была удивительная ночь. В жизни вообще-то много хорошего, можно пережить много прекрасных ночей, но все они разные, в ту ночь было так, как никогда до того, и вряд ли когда я еще узнаю подобное. Мне казалось, что ей хочется, чтобы ночь эта никогда не кончалась.
— Что ты будешь делать, когда война кончится, Марта?
— Ох, когда кончится!.. — она сделала неопределенный жест. — Разве сейчас время думать об этом?
— Время. Конец близится. Знаешь, что я скажу тебе? Я целый вечер думал об этом. Если тебя устроит то, что я смогу предложить, когда кончится война, если сам я для тебя буду что-нибудь значить…
— Ты ничего не знаешь обо мне, Володя.
— Вздор. «Ничего не знаешь обо мне… Ничего обо мне не знаешь…» Я знаю о тебе достаточно, но пугает меня одно — ты можешь покинуть меня.
— Я ведь сказала тебе, как живу.
— Это только поза, Марта. Все это тебе только кажется. Но если, если бы и правда было так, как ты говоришь, мне все равно. Такая, как ты есть, ты желанна для меня…
— Оставим будущее, Володя… Утро приближается неотвратимо… Мы одни… Кто знает, когда еще мы снова будем вместе?..
Утро приближалось, неотвратимое, жестокое утро.
— Пора, Марта…
Я поднялся, приподнял ее. Она не просила меня остаться. Мы принадлежали не только себе, кроме ночи и любви, было на свете еще и другое. Она прижалась ко мне и прошептала:
— Ради этой ночи… ради того, что она была, стоило жить.
Я оторвался от нее, пошел.
Через город идти я не рискнул, было еще темно, и в этот час по улицам ходить всего опаснее. Я обошел город и углубился в лес. В сумерках добрался до Плоштины. И доложил Николаю, как прошла операция.
— Хорошо, Володя! — Николай похлопал меня по плечу. — Хорошо, хорошо, — повторил он весело.
Чему он радуется? Тому, что нам стало известно имя предателя? Разве это повод для радости? Но нет, у него другие мысли. Вот негодник, он думает совсем о другом. Значит, у меня такое уж лицо, что по нему все видно.
Утром я столкнулся с Иожиной.
— Ишь ты, — насмешливо протянула она, — да у тебя новая рубашка, и какая шикарная…
Ну что ей надо? Что ей от меня надо? Пусть делает, что хочет, а меня оставит в покое. Разве мое дело, что у нее каждую ночь другой? Пусть лучше не вяжется ко мне — я с ней спать не стану.
— За что ты сердишься на меня, Иожина?
— Ни за что. Ну за что мне на тебя сердиться? Одно только — дурак ты.
— Сама ты…
— Знаем-знаем, хуторскими не интересуешься…
Я отвернулся и пошел прочь, а она продолжала скалить зубы.
— Все равно ты евнух! — кричала она мне вслед. — Но, говорят, городским барышням это даже нравится…
Это развеселило меня. Ну и Иожина, все-то она знает. А всего два месяца назад она была скромной девушкой, носила косы и верила, что на этот свет ее принес аист. Да, действительно, слишком уж быстро мы живем…
Марта часто приходила в Плоштину. Нам нечего было скрывать, но люди Плоштины относились к Марте по-особенному бережно.
— Ты смотри, парень, не обижай ее, — говорила мне Рашкова, — у нее ничего, кроме тебя, нет на свете…
Меня удивляли странные отношения Марты с хуторянами. Совсем особенные отношения, я не мог ничего понять. Объяснила все Марта, как-то она проговорилась:
— Я два года скрывалась в этой вот каморке, Володя…
— Но как же ты сюда попала?
— Пряталась здесь. Ты ведь не знаешь, моя фамилия — Рашкова, я дочь Рашки.
Я не знал этого.
— Да, Марта Рашкова, Володя… так и в паспорте написано, черным по белому, и в метрике, и в удостоверении…
Я удивлялся, а она смеялась.
— Я очень люблю этих людей, Володя. Вы должны все сделать, чтобы с ними ничего не случилось.
Это были прекрасные недели. Я жил. Я пользовался каждой минутой жизни. Когда мы отправлялись на задание, каждый камешек под ногами говорил: «Ты живешь, ты живешь, жить так прекрасно…»