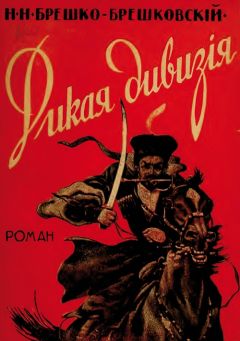В когтях германских шпионов - Брешко-Брешковский Николай Николаевич
— Хорошо…
Он вынул из письменного стола чековую книжку.
— Не стесняйтесь в сумме, — подбадривал Флуг. — Даю вам слово, что она будет прямо пропорциональна обещанной декорации.
Ольгерд Фердинандович подумал, подумал и выписал чек на пятнадцать тысяч.
Флуг посмотрел, ничего не сказал и, сложив чек, сунул в бумажник.
— А теперь соблаговолите проставить эту же самую сумму здесь, у меня в записной книжке, и скрепить вашей подписью…
Опять холодок в спине…
— Разве… и это нужно?..
— Это необходимо!
Отступать было поздно. Ольгерд Фердинандович с решимостью взялся за перо.
Когда он подписывался, дрожали короткие, пухлые, с мягкими плоскими ногтями, пальцы. Но все же Ольгерд Фердинандович не изменил своей хамской манере ставить разом обе начальные буквы имени и отчества. И вышло не О. Пенебельский, как следовало бы, а как всегда выходило у него — О.Ф. Пенебельский.
Словно проделав какой-нибудь физический труд, откинулся Ольгерд Фердинандович в глубь кожаного кресла и вытер платком вспотевший нос. Голова его мучительно работала, пытаясь разобраться в чем-то, пока еще хаотическом, но слепом и тяжёлом, как судьба. И впиваясь пальцами в подлокотник из красного дерева и подавшись вперёд к Флугу всем своим раскормленным телом, банкир шёпотом преступного сообщника спросил:
— А когда будет… когда предполагается начать… войну?..
Флуг усмехнулся углами рта.
— Господин фон Пенебельский, вы либо чересчур наивны, либо совсем напротив, хитры и коварны, как тысяча дьяволов, связанных вместе хвостами. Вы задали мне вопрос…
— Но ведь я же свой, я — немец…
— Вы задали мне вопрос, — продолжал, не слушая его, Флуг, — за ответ на который с одних ничего не берут, с других — берут миллион, а то и миллионы… Ведь я же вас понимаю отлично. Вам хотелось бы это знать для биржевых операций.
— Господин Прэн… Вы читаете в мыслях…
— И вижу на несколько метров, что делается под землею. Итак, по-американски: за две недели, даже за месяц, вы узнаете от меня точно, с самыми пустячными колебаниями, день объявления войны. Но это обойдется вам в два миллиона рублей — не марок. Согласны?..
— Согласен!.. Я готов хоть сию же минуту выдать вам какое-нибудь «домашнее» обязательство…
— Не надо. Я верю. А самое главное, вы у меня в кармане, господин фон Пенебельский! — молвил Флуг, вставая и хлопнув себя по тому месту визитки, где лежала записная книжка.
Ольгерд Фердинандович хотел улыбнуться, но улыбка вышла косая, и странно как-то оскалилась часть «мёртвых», вставных зубов. Во рту он почувствовал вкус меди…
Флуг ушёл, унося в кармане чек, а в своей темной душе — презрение к этому человеку, который, гнушаясь происхождением своим, готов притвориться поляком, русским, немцем — в зависимости от того, кем ему быть сейчас выгодней. Человеку без отечества…
11. Человек земли и человек воздуха
«Человек земли» являл собою легкомысленного, скользящего по верхам, неглубокого юношу, способного как-то беспорядочно, бесхарактерно увлекаться первой попавшейся юбкой, только б она ему приглянулась внешне. Но совсем другим становился Агапеев, превращаясь в «человека воздуха».
Садясь на свой аппарат, он уже сразу от одного прикосновения этого весь преображался. Словно подменяли его кем-нибудь другим. И Агапеев, и не он… Тот, да не тот!..
Резче и тверже намечался профиль. Кожаный шлем сообщал ему какую-то мужественную суровость. В птичьих глазах что-то соколиное вспыхивало… И под шум пропеллера, искусно владея послушным рулём, он забывал всех на свете женщин, весь во власти далёких, манящих высей…
Это не был заурядный лётчик. Это был художник-поэт воздухоплавательных достижений. Образованный технически, Агапеев как-то особенно, проникновенно, по-своему, не как другие его товарищи, понимал и чувствовал свой аэроплан с его сложным, капризным скелетом. С каждой малейшей гаечкой, каждым крохотным винтиком умел он говорить, и они понимали друг друга.
Не удовлетворяясь готовым, Агапеев сам искал, много работая, и в конце концов придумал и создал тот самый «Огнедышащий дракон», которым так заинтересовался Флуг.
Несмотря на свои двадцать четыре года, Агапеев имел громадный боевой опыт, совершив десятки опасных, головоломных полётов в Болгарии, Черногории и Сербии во время балканской войны.
Это он, Агапеев, бесстрашной птицею кружился над осаженным Адрианополем, разбрасывая населению болгарские прокламации. Это он спустился после своего исторического полета на аэродроме в Мустафа-паше, с крыльями, превращенными в решето градом турецких пуль. С болгарским штабом Агапеев поделился ценными наблюдениями с высоты орлиного полета своего, и в награду за все русский лётчик не только не был поощрён каким-нибудь соответствующим орденом — какие уже тут поощрения! — но даже не получил тех денег, что следовало ему по условию.
Совсем другое отношение встретил он в Сербии и Черногории. За полет над кумановскими позициями престолонаследник Александр лично украсил грудь Агапеева орденом Святого Саввы.
В Черногории Агапеев «ссадил» и заставил отдаться в плен австрийского летчика. И все это было проделано с верою в себя, отвагою и в то же время с чисто охотничьим азартом пылкого спортсмена.
Таков этот «человек воздуха». А на земле, в обычной обстановке, он не застрахован был от самых мальчишеских глупостей.
Но вот он уверил себя, что влюблен, — да, пожалуй, и на самом деле влюбился — в княжну Тамару Солнцеву-Насакину. В эту девушку с такой нежно-молочной кожею и зеленоватыми глазами, к вискам приподнятыми, как у японки. Японки с темно-рыжими волосами. На щеке у неё чернело крохотное родимое пятнышко, правильное и темное, словно мушка. Да и было впечатление мушки, сообщавшей своеобразное очарование всему неправильному, живому личику, с чуть вздёрнутым носиком и заострённым книзу овалом.
Княжна, интересовавшаяся авиацией, познакомилась с Агапеевым во время полётов. Он стал бывать у них в доме. Тамаре, не отделявшей в нем человека воздуха от человека земли, досадно было бы отделять — казалось, что она увлекается им.
Пожалуй, в этом больше было кокетства, чем увлечения. Кокетства чистой девушки, но уже с просыпающимся темпераментом и с какими-то, пока еще смутно-бунтующими зовами…
Старый князь-отец был на самом деле вовсе не стар. Пятьдесят четвертый год — какой же это век для мужчины? И бодр он был, и достаточно силен и крепок, а между тем — весь в прошлом. Он любил писать гусиными перьями, не любил электричества и гордился, не кичился, а именно гордился древним происхождением своим от Рюрика. От его взглядов на детское воспитание отзывало эпохою сороковых годов.
Княжна кончила институт, была уже невестой, не чьей-нибудь, а вообще, девушкой, которая должна же раньше ли, позже ли выйти замуж. Но отец не позволял ей одной выезжать из дому. И если б старый князь знал, что дочь обедала в «Семирамис-отеле», даже в обществе брата и под опекою княгини Долгошеевой… Если б он только знал…
Искавших руки Тамары было много. И среди них — люди с именем, положением, связями. Но отец одним своим видом так запугивал всех претендентов, что слова замерзали у них на губах. Он с какой-то гипнотизирующей других незыблемой искренностью уверен был, что о такой партии может мечтать разве принц крови. А Тамара без всякого вызова, просто, молвила ему в ответ:
— Знаешь, папа, если б я сильным чувством полюбила человека, кто бы он ни был, я без колебаний, не задумываясь, ушла бы вместе с ним…
И при этом в зеленоватых японских глазах дочери и во всей её молодой упругой, как струна, фигуре с острым приподнятым подбородком, крепким и белым, он видел такую решимость, что даже он, деспотический, властный, терял под собою почву…
Агапеев бредил Тамарой, обещал тысячи безумных подвигов, только б согласилась за него выйти. Тамара, лукаво смеясь, отвечала неопределенно, полутонами, но скорей обнадеживая, чем обескураживая. Или шутила: