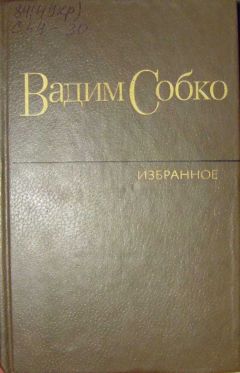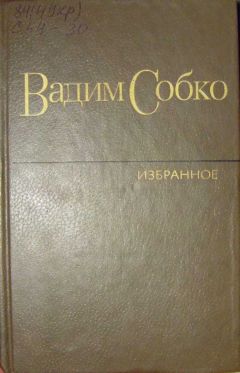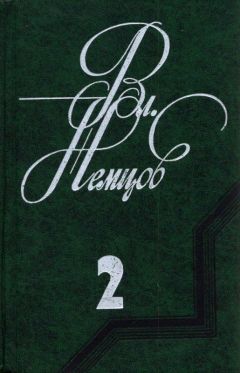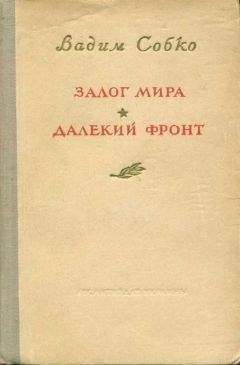Вадим Собко - Избранные произведения в 2-х томах. Том 2
На шее Грюнгофа — символ власти бургомистра — здоровенная золотая бляха. Через весь живот, всем напоказ выставлена её толстая золотая цепочка. Тяжёлые щёки нависли над жёстким накрахмаленным воротником. Седые брови встопорщились железными щёточками. Поредевшие серебристые волосы пополам перечеркнул розовый ровный пробор. Глаза цвета пива, хмельные от сознания значительности переживаемой минуты. Энергия так и кипит во всём теле бургомистра Грюнгофа, как густая смола, и только красные пятна на щеках да сизый затылок напоминают о высоком давлении и скверном здоровье. Ничего, ничего, Грюнгоф ещё поживёт, ещё увидит окончательную победу!
— Мейне дамен унд герен, — начал торжественно свою речь бургомистр, и громкоговорители разнесли его хрипловатый голос во все уголки площади, — мы собрались здесь, чтобы выполнить наш гражданский долг, участвовать в важном акте очищения немецкой расы. Пусть сегодняшний день навсегда останется в нашей памяти, пусть каждый истинный немец сделает соответствующие выводы и удвоит усилия, направленные на грядущую победу. Хайль Гитлер!
Руку вперёд и вверх он выбросил точно и ловко. Площадь, как загипнотизированная, ответила именно таким же автоматическим движением и громовым возгласом «Хайль». Только пленные, лишённые этого почётного права приветствовать фюрера, остались стоять неподвижно. Для немцев они люди низшей расы, а потому вообще не люди.
— Передаю слово господину прокурору Глобке, — заявил бургомистр. Прокурор Глобке, пряча в высоком парадном воротнике своё по-лисьему узкое лицо, подошёл к микрофону. Роман Шамрай в школе учил немецкий язык без особого энтузиазма. От того времени остались в памяти, всего несколько слов и стихотворений. Но и они пригодились, когда пришлось оказаться в Германии. Пленные обучаются языкам удивительно быстро, Они владеют сотней самых необходимых слов, зачастую не зная, из какого языка они взяты. Все их чувства, в том числе и память, всегда обострены до крайней степени. В лагерях, где заключены люди разных национальностей, новички уже через месяц начинают говорить на этом удивительном лагерном языке.
Из краткой, но грозной по интонации речи прокурора Роман понял, что сейчас покарают трёх немок. Они изменили своему важнейшему долгу — не соблюли чистоту немецкой крови: вступили в преступную плотскую связь с пленными поляками, забеременели от них и вскоре родят расово неполноценных детей. Любовников женщин сейчас публично казнят, чтобы и впредь никому не повадно было посягнуть на чистоту немецкой расы.
Шамрай представил себе тихую немецкую ферму, из которой уже давно ушёл на фронт хозяин, дебелую немку, захлёбывающуюся от жизненной силы, и молодого пленного поляка, батрака. Он ночует на сеновале. Ему можно приказать всё что угодно. Его можно казнить, если он проявит хоть малейшую непокорность. Он работает с утра до ночи, но, должно быть, тоже не сразу засыпает на своём сеновале, потому что в Германии стоит зелёная, пахнущая цветами бузины весна. Поляк совсем молодой и красивый, как писаный. Сначала хозяйка не обращает на него внимания. Это не человек — он раб. Но проходит какое-то время, и образ поляка всё чаще и чаще приходит в истосковавшиеся сны одинокой женщины. Мужа её забрали на фронт сразу после свадьбы.
Ещё сама не догадываясь почему, она начинает немного лучше кормить пленного. Она ещё ничего не решила, у неё пока нет никаких намерений… А потом желание определяется более чётко, женщина уже не может спокойно лежать в своей постели, под жаркими пуховыми перинами, и выходит во двор. Нечего и думать, чтобы поляк отважился сам сделать первый шаг. Это равносильно смерти.
И вот, борясь с собой, со своей арийской гордостью, она идёт к сеновалу.
Яркий лунный свет заливает подворье, тени прячут хорошо знакомые предметы, но в последний момент она пугается, возвращаясь на крыльцо, заставляет себя подождать, пока с неба не исчезнет серебряный месяц.
Она выдерживает две-три ночи, а потом снова выходит. На подворье темнота, и она идёт как во сне, уже не обращая внимания на опасность.
По шаткой лестнице поднимается она на сеновал. Парень не спит. Он уже всё давно понял, он ждёт. И она берёт любимого в тепло мягких красных перин, где пряно пахнет сладким женским потом.
Месяц проходит за месяцем, по тихой окраине чёрной гадюкой начинают ползти слухи. И, конечно, на ферму приходит полицейский. Скрыть уже ничего невозможно.
А может, это было совсем иначе?
Может, встретились двое, парень и девушка, встретились где-то у речки, в лунном сиянии, и полюбили друг друга, не думая о том, у кого какая кровь…
С балкона ратуши прозвучала команда. Через боковую улочку в окружении десятка солдат на площадь вышли три беременные женщины. Даже просторные чёрные платья, почти плащи, уже не могли скрыть этого. Каждая взошла на помост и села на стул лицом к виселице. Все три простоволосые, две белокурые и одна шатенка. Косы распущены, и волосы свободно и обильно закрывают плечи, и в том, как они беспомощно свисают на грудь, спину женщин, есть что-то очень печальное.
Две женщины, по всей видимости, простые крестьянки, круглолицые, загоревшие на весеннем солнце, большие и сильные, привычные к любой работе.
Лицо третьей женщины тонкое, продолговатое, с ровным носом и большими светлыми глазами. Поникшие плечи, скорбно склонённые головы выражают покорность судьбе.
Романа Шамрая больше всего интересовала толпа на площади. «Благородные» страсти здесь разгорались всё сильнее. Какие-то перезревшие мегеры с злобно вытаращенными глазами рвались к помосту, требуя самосуда, и солдаты грубо и насмешливо отталкивали их, не упуская случая поддать им слегка тумака. Мужчина в зелёной шляпе с петушиным пером и в коротких баварских засаленных (высший шик!) кожаных штанах громогласно настаивал, чтобы этих «шлюх» повесили рядом с их польскими самцами.
Снова послышалась команда, и трое ловких эсэсовцев с электрическими машинками, которыми стригут овец, проворно вскочили на помосты. Длинные чёрные провода от них тянулись к ратуше. Машинки зажужжали, как лютые, от крови пьяные осы.
В самом центре, в сердце изысканно-цивилизованной Европы должно было произойти нечто нечеловеческое, дикое.
В эту минуту заиграл оркестр. Музыканты в полную мощь своих лёгких выдували из своих труб сентиментальный штраусовский вальс «На прекрасном голубом Дунае». Толпа замерла, на мгновение поражённая, а потом немцы стали хохотать, открыто глумясь над несчастными. Догадлив этот капельмейстер. Отлично всё продумал господин бургомистр.
Женщины ссутулились, замерли, сидя на своих стульях. Две смотрели себе под ноги, не решаясь и глаз поднять. Третья, высокая блондинка, не отрывала взгляда от виселицы.
Эсэсовец подошёл к ней, быстрым движением собрал в тугой жгут пышные светлые волосы и поднял вверх, словно намереваясь сорвать женщину со стула. Её голубые глаза стали безумными, но взгляд их не изменил направления.
Палач, словно фокусник на сцене, оглядел толпу, ожидая похвал или аплодисментов, потом широким движением поднёс своё оружие к нежному женскому затылку. Машинка захлебнулась своим ядовитым шипением.
Вальс Штрауса оборвался. Теперь только барабанщик выбивал тревожную дробь, совсем как в цирке, когда артист начинает исполнять смертельный номер.
Эсэсовец провёл машинкой раз, другой, третий. Женщина ссутулилась, инстинктивно стараясь вобрать голову в плечи. Напрасно просить пощады или надеяться на помилование. Машинка жужжала над её ухом, как зверь, хищный, злой, ножи визжали от ярости. А эсэсовец, хвастаясь своей ловкостью, за несколько секунд наголо остриг женщину и высоко, как трофей, чтобы все видели, поднял над головой прядь светлых, пушистых волос.
На площади стояла тишина. В это время, по расчётам устроителей этого позорного зрелища, должны была грянуть аплодисменты, но толпа молчала. Остриженная голова женщины, круглая и белая, торчала как некий зловещий символ.
Теперь внимание толпы переключилось на другой помост. Там эсэсовец не был таким ловким и умелым. Чтобы остричь косы, ему потребовалась минута, не меньше. От торопливого, поспешного движения палача ножи машинки скользнули по женскому затылку и струйка крови поползла от круглого темени за ухо женщины.
К горлу Шамрая подступила тошнота. Он много месяцев провёл в лагерях, видел голод, смерть, казни, гнил в карцерах, знал, как смердит человеческое мясо, сгорая на проводах высокого напряжения, ему казалось, что он всё на свете мог выдержать и пережить. Но вид женского страдающего лица принёс такую душевную муку, что впервые за всё время ему захотелось умереть. Просто вот так умереть, и всё. Мир не стоит того, чтобы в нём жить.
Третий эсэсовец сделал своё дело привычно быстро. Теперь женщины сидели на помостах, как чёрные грибы с белыми шляпками. Две плакали, не решаясь вытирать бегущие по щекам слёзы. Третья неотрывно смотрела сухими, горящими глазами на виселицу и, казалось, не видела ничего, кроме петли, чётко обозначившейся под толстой перекладиной на фоне светлого весеннего неба.