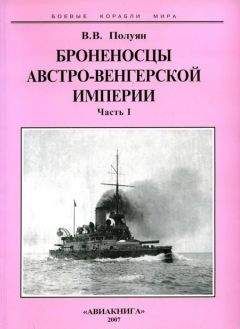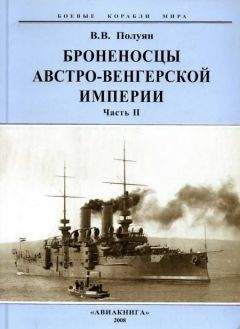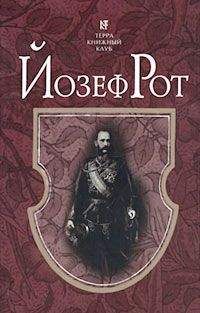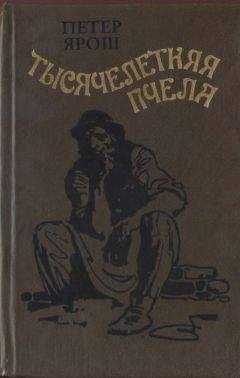Яромир Йон - Вечера на соломенном тюфяке (с иллюстрациями)
Через несколько минут к нам в спальное помещение вошел дежурный ефрейтор, а следом за ним ввалился Ощадал со своим сундучком.
Как жахнет его на койку!
Я отдал ему свой кофе, он еще был теплый, и говорю:
— Эй, Ощадал, ты, верно, совсем обессилел. Намучился, бедняга, — от самого вокзала пер его сюда. Верно я говорю?
Молчит. Одним глотком выпил кофе, съел кус хлеба, улегся, набил трубку и дым пускает.
Я тоже молчу.
А дым ноздри щекочет. Курить хочется, терпежу нет.
Достаю трубку, поковырял в ней пальцем и хлоп-хлоп крышечкой.
Ощадал хоть бы что. Лежит себе в подштанниках, ноги вертилирует, дымит, уставился в одну точку.
Беру трубку в зубы, продуваю — пфф, пфф…
Ощадал и ухом не ведет. Знай дым пускает с довольным видом, да лампочку разглядывает — одна-единственная под потолком болталась. Будто это его не касается.
Все спокойно. Ребята храпят на своих койках.
Тут я не утерпел:
— Ощадал, ведь ты обещал мне осьмушку табаку. Когда дашь?
Он помолчал и говорит:
— Когда рак свистнет.
Я натянул одеяло на голову, думаю про себя: «Ну и поделом тебе, дурак сиволобый! Ты бы ему еще ж… поцеловал!»
Тетушки
— Ах, боже ты мой, вот радость‑то, ну, здравствуй, здравствуй! — воскликнула тетя Йозефина, едва я ступил во дворик. — Вот уж гость так гость! Откуда бог принес? — не снижая тона, продолжала она, держа в одной руке окровавленный нож, а в другой — зарезанную гусыню с жалобно болтающейся головой.
Куры, которые наблюдали за ее кровавым деянием, заслышав крик, испуганно разбежались.
За деревянными сараями подняла лай собака. Из окон высокого дома высовывались жильцы.
— Каролинка! — крикнула тетушка, глядя в окно второго этажа. — Яромирек приехал! И в военном!
Из-за стоящего на подоконнике воскового дереза выглянула седая голова тетушки Каролины, и тут же раздался ее восторженно-пронзительный вопль:
— Батюшки-светы! Здравствуй… Радость‑то какая! Ах ты, господи, а я то говорила: не режь гусыню, не режь! Ну для кого она? Ведь нам ее не съесть, двум старухам… Прямо как по приглашению явился… Вот славно… Батюшки мои светы!
— Проходи же, проходи, — сказала тетя Йозефина и обтерла нож о синий передник.
Маленькая квартирка до отказа набита мебелью, оставшейся после продажи мельниц в Гальдах и Немошицах.
В столовой на стене эстампы, собранные еще покойным дядей, — они изображают деятелей французской революции. В застекленном шкафу старые тома исторических книг. Над кроватями с покрывалами из квадратиков разноцветного сукна висят писанные маслом портреты прадеда и прабабки. На ампирном секретере — книга о строительстве Национального театра.
Под треснувшим стеклянным колпаком тикают часы с серебряными колоннами по обе стороны циферблата.
Все по-старому. Все на своих местах. Время в этих комнатах остановилось, как в гробнице фараонов.
Но краска на стенах потускнела, электрические провода отвисли, ковер с розовыми цветочками позатоптался, время поубавило хрустальных подвесок на люстре, обивка на стульях прохудилась… Только возле кровати — иначе и быть не могло! — до сих пор стоит, как стоял испокон веков, старый, ломаный «разувайка» — приспособление для снятия высоких сапог.
Двадцать пять лет знаю я этого «разувайку», и всегда он был сломан.
Верой и правдой служил он семье, вместе с ней перенося все превратности судьбы, пережил и расцвет ее и упадок — и не изменился. Верный друг! Ты странствовал с квартиры на квартиру, и всегда твое место было возле этой кровати с искусно инкрустированными спинками. Составленный из рифленых шаров, ты являешь собой образец столярного мастерства: красивая резная подставка для ноги, ручки как у плуга, передняя стенка расшита бисером. Ты как бы приближал семью к высшему свету, к блестящему миру благородных, не один десяток лет терпеливо дожидаясь в спальне для гостей на гальдовской мельнице, когда придет миг, чтобы подставить себя под сапог знатного гостя, по меньшей мере графа!
Но тетушка Йозефина никогда не давала мне вдоволь помечтать над рубиновыми рюмками, над славковским фарфором и оловянными тарелками, засыпая меня вопросами, на которые не ждала ответа, и не замечая моего рассеянного взгляда, блуждающего где‑нибудь во Флоренции времен заката старинных родов Медичи, Пацци и Питти.
Вот и теперь на меня обрушился град вопросов:
— Откуда ты приехал? Где был? У кого? Долго ли? Ага, значит, в Кухановицах? Так, так! Неделю, говоришь? У инспектора? У какого инспектора? Ах, да! Почему‑то ты бледный! С чего бы? Может, зуб? Я дам тебе капли! И что же этот инспектор? Ах, да. Так вот — я дам тебе капли! Послушайся меня, мальчик! И шерстяной платок. Обвяжешь голову. Гляди‑ка, Каролинка несет тебе кофейку? Садись, садись, да не туда, вот сюда! Так, так! Что? Не хочешь доедать? Не любишь поскребышки со дна? Не выбрасывай! Дай сюда! Возьми‑ка пирожков! Любишь? Посыпать еще сахарком? Какие ты больше любишь, с маком или с творогом? С маком? Вот и славно. Хорошо, что зарезали эту гусыню! Где будешь спать? В комнате брата? Но там стоит бочонок с капустой. Не помешает, говоришь? Бери же — угощайся, бери, бери, бери!
Она убежала на кухню.
Я остался в комнате с тетей Каролиной.
Тетушка вынула из комода чистый носовой платок, задвинула ящик, села со мной рядом и стала ласково меня разглядывать, словно мать, влюбленная в свое дитя. Пристально следя за каждым моим жестом, за малейшим движением, она, видимо, отыскивала в моем лице черты семейного сходства.
Ее речь тоже неслась стремительным потоком:
— Ну и обрадовал же ты нас, мальчик! Из Градца едешь? Откуда? А где еще побывал? В Пршелоучи случайно не был? Не знаешь там такого Скршиванека? Он тоже из вашего полка. Как же ты можешь его не знать? Еще его брат был у нас на мельнице старшим помощником и женился на Маринке Власаковой из Свидницы. Ах, мальчик, как я мучаюсь с глазами! Правым совсем не вижу. Туман да искорки, понимаешь? Нет, ты послушай — искорки так и мелькают!
Я глядел в ее слезящийся левый глаз с бельмом. А ведь когда‑то у тети Каролинки были прекрасные черные очи, которыми она околдовывала все бероунское общество.
Тетушка вытерла слезы и продолжала:
— Вот видишь? Плохи мои дела. Говоришь, поправится? Где там! Йозефинка обдирает гусыню. На ужин будет кровяной паштет и потроха, слышишь? Гусиные потроха… А куртку, мальчик, в другой раз на кровать не бросай. И славно, коли понял. За дверью есть вешалка… И ничего ты не рассказываешь! Ты сержант? Ах да, сержант, ты ведь в казенном… ага… хорошо, что в казенном! Свое береги! Вот ведь беда — порвалось… Ну‑ка, покажи. Встань! Повернись против света! Нагнись! Об гвоздь, говоришь? Скинь‑ка штаны! Я мигом заштопаю… Фи, сколько пыли! Придется выколотить их на дворе.
Я прошел в комнату. В ней жил мой брат, пока не уехал на войну, в Польшу.
В углу, на письменном столе, грудой навалены книги по юриспруденции, отпечатанные литографским способом лекции. Доска покрыта листом белого клякспапира. Стеклянная пепельница, мундштуки для сигар, портрет невесты.
Тетушки не любят заходить в комнату, где жил брат. А если и войдут — схватят нужную вещь и пугливо убегают.
Не то будут долго и безутешно плакать.
Когда плачет тетя Йозефина, она скрывает свои слезы от сестры.
Каролинка уходит плакать на кладбище.
Там ее второй дом. Она постоянно думает о мертвых. По ночам видит во сне милых сердцу людей, которые безвозвратно покинули ее.
Тетушка Каролинка ходит на кладбище разговаривать с ними. Сетует на свои горести. Плачет…
* * *Я вспоминаю первые дни мобилизации в 1914 году.
Лихорадочные, беспокойные дни.
Брат уезжал!
У тетушек хлопот по горло. На этом самом столе громоздилась гора белья, ботинки, брюки, мундир, продукты.
Шутка ли — собрать солдата на войну.
Обо всем нужно помнить, ничего не забыть.
Брат примчался:
— Вечером уезжаю! Принесите кофе! Готовы мои новые ботинки? Пошлите за чемоданом! Подайте мундир!
Каролинка с трепетом подает ему синий мундир лейтенанта императорских егерей.
Брат долго бьется с крючком у ворота, тетушка кривыми пальцами пытается ему помочь.
— Поправился же ты, мальчик! Ну прямо пан пивовар! — и бежит к портному.
Снарядили брата в путь-дорогу, проводили вечером на вокзал, тетушки несли вещи и плакали.
— Что плачете, тетушки? — смеется брат.
— Да так! Уж ты, мальчик, поскорее возвращайся!
— Вернусь! В целости и сохранности вернусь к вам, тетушки! — смеется он и покуривает сигарету.
— Не кури слишком много!
— Береги здоровье!
— Вернись, ведь у тебя ни отца, ни матери, господи боже ты мой!
На переполненном вокзале — словно в муравейнике. Длинный состав уже подан.