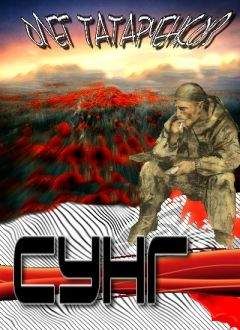Виктор Тельпугов - Парашютисты
— Одно из двух — или полчасика сыпанули только, или целые сутки отмерили.
— Полчасика, — ответил Слободкин спросонья. Кузя запустил руку в золу костра.
— Не-ет, тут не полчасиком пахнет. Все выстудило давно. Подъем, братцы!
Они выгребли из золы всю оставшуюся от вчерашнего пиршества картошку, стали есть уже не спеша, переговариваясь.
— Во-первых, надо связаться с местным населением, — рассуждал Кузя. Больной старик не в счет, он плохой нам помощник. Во-вторых, необходимо как можно скорей напасть на след бригады. После того боя, возможно, рассредоточились, но потом все равно будет общий сбор. Обязательно. Где? Все это мы разведать должны и — скорее, скорее к своим. География у нас теперь в кармане. — Кузя расстегнул кнопку планшета, в руках у него зашелестели карты всех цветов и масштабов. Он ткнул пальцем в оказавшуюся среди них политическую карту Европы и прочитал: — "Могилев, Рогачев, Борисов…" Все разобрать можно.
— Ты совсем немцем заделался, — сказал Слободкин.
— Нужда заставляет. А знаете, братцы, какое счастье я вчера испытал?
— Ну?
— Немца мы не просто сбили — немецкими автоматами! Это многого стоит. От своего же оружия сгинул. А! Я даже хотел ткнуть ему автомат в нос, чтоб понял…
— Ну и надо было, — перебил его Слободкин.
— Гуманность заела. Дурацкая наша, русская.
— По-гуманному можно с людьми, — вздохнула Инна. — Этот зверем пришел.
— Бить их надо, — согласился Кузя. — Убивать. Кузя снова склонился над картой:
— Кричев, Шклов, Чернигов…
— А Клинск? А Песковичи? — перебил Слободкин.
— Гомель где? — спросила Инна. — Есть Гомель?
— Гомель! — Кузя остановил черный от золы и картошки палец на пересечении узких линий. — А вот Клинск а и Песковичей что-то не видно.
Они стали вместе шарить по карте и от волнения долго не могли найти ни того, ни другого. Отыскав, успокоились.
— А в общем ощущение у меня все равно самое скверное, — вздохнул Кузя.
— Что такое!
— Не могу этого точно еще передать. Сами подумайте: карта нашей земли по-немецки заговорила уже… Я вдруг представил себе: входят они в города, меняют названия на свой лад и городов, и улиц, и площадей. И Чернигов уже не Чернигов, а Чернигоф… "Могилеф, Рогачеф, Борисоф" — тут так и написано. — Он брезгливо отбросил карту.
— Ну, это зря уже, — сказала Инна. — При чем тут карта?
— Очень даже при чем, — стоял на своем Кузя. — На цвет обратили внимание?
— На что?
— На цвет! — рассердился Кузя. — И себя и нас одной краской…
Слободкин с Инной наклонились над картой и увидели: фиолетовая муть растеклась по всей Белоруссии, до самого края листа…
— Теперь понятно? — спросил Кузя.
— Теперь — да. — Инна наподдала ногой карту, потом нагнулась, чтобы порвать ее вовсе и тем отвести душу, но Кузя остановил девушку:
— И все-таки спокойствие прежде всего. Придет время, порвем, спалим даже, чтоб клочка от нее не осталось. А сейчас…
Он взял из рук Инны карту, распрямил ее на земле, и снова черный палец его зашуршал по складкам бумаги.
— Мы вот здесь приблизительно. Или вот здесь…
— Так где же? Здесь или здесь?
— Вы меня спрашиваете? — удивился Кузя.
— Конечно. Ты за командира у нас, — ответил Слободкин.
— Глупости! Какой из меня командир? Давайте думать вместе. Главное сейчас — определиться. Какой сегодня день? Слободкин и Инна пожали плечами.
— То-то! Серьезные все вопросы. Счет верстам и дням потеряли.
Не годится так. Ну-ка прикинем. Началось в воскресенье.
— В воскресенье.
— Воскресенье — раз. Понедельник — два. Вторник — три. Среда — четыре. Четверг — пять… Так, что ли?
— У нас началось в субботу, — сказала Инна. — Я спала после дежурства, и вдруг…
— Мы все спали, но это было раннее утро воскресного дня.
— Как хотите, но у нас началось именно в субботу. В субботу поздно вечером.
— Ну ладно, не будем спорить из-за одного дня. Итак, сегодня что у нас? Пятница? Суббота? Или…
— Я не знаю, — сказала Инна. — У меня давно уже все перепуталось.
— И у меня, — сознался Слободкин.
— Честно говоря, у меня тоже, — вздохнул Кузя. — Допустим, сегодня ровно неделя.
— Суббота, значит? — спросила Инна.
— Я и так уже сбился, — осуждающе поглядел на нее Кузя. — Ну ладно, пусть будет суббота.
Они спорили еще долго, пока окончательно не перемешали все дни и числа.
— А все-таки у страха глаза велики, — вдруг мрачно сказал Кузя.
— О чем это ты? — не понял его Слободкин.
— Ни о чем, а о ком. О нас с вами. Только с перепугу можно стать такими простофилями, как мы. В деревне были?
— Были.
— Как она называется? Даже этого не узнали.
— У старика-то?
— Хотя бы.
— Да он…
— "Да он", "да он"! Чудики мы, вот и все. Придется еще раз судьбу испробовать. Так и надо таким разиням.
— Это ты кого так? — спросил Слободкин.
— Не ее же, конечно, — он сердито кивнул на Инну, — наше соображенье с тобой где?
— Да-а… простое ведь совсем дело. Я согласен идти еще раз,
— Я сам схожу, — тоном, не терпящим возражений, сказал Кузя. — И сейчас же.
— Ты с ума сошел! Сейчас — ни в коем случае!
— Нет, нет, только сейчас. Нельзя больше терять ни минуты.
Он ушел, хромая. Казалось, его не будет целую вечность. Слободкин и Инна приуныли, приготовились ждать до вечера, но случилось все по-иному. Примерно через час зашуршали сухие листья под ногами Кузи и он предстал перед глазами друзей, счастливый, сияющий.
— Собирайтесь!
— Что такое!
— Собирайтесь, вам говорят. Своих нашел!
Слободкин и Инна заспешили за Кузей. Скоро они оказались на поляне, посредине которой сидела старуха, такая же древняя, как тот старик в деревне. Перед старухой стояла корзина, полная грибов.
Подошли поближе, заговорили:
— Здравствуйте, бабушка.
Она поглядела очень спокойно, но недоверчиво, прошамкала:
— Вам кого? Своих, что ли?
— Своих, бабушка.
— А где свои-то? Своих нету давно.
— И в деревне тоже?
— И в деревне. А вы отстали? — Отстали, бабушка. Но мы догоним еще.
Старуха с сомнением оглядела их:
— Шибко идет. На колесах.
— Нам бы с вашими поговорить, с деревенскими.
Старуха помолчала, потом, как бы рассуждая сама с собой, спросила:
— Свои, значит?
— Ну конечно, свои, бабушка, — шагнула вперед Инна.
— Пойдемте со мной. Только я тихо пойду, ноги не мои совсем.
— Да и мы тихоходы, бабуся, — сказал Слободкин.
Инна взяла старуху под руку. Они пошли в самую чащу. Через каждые несколько шагов старуха останавливалась, хрипло и тяжело вздыхая. Парни тоже пользовались остановками, чтоб передохнуть.
— К старику хотела сходить, проведать, как он там, да уж ладно, к ночи схожу, — сказала старуха.
— А старик где? В деревне?
— Вот и горе-то. Инна остановилась.
— Вы уж, бабушка, ступайте тогда в деревню, а хотите — мы вас проводим.
— Ишь чего удумали! Он, — она подняла над собой палец, — нас живо проводит!
Проводил уже немало. Схоронить не успели еще…
— Старика вашего мы видели, бабушка, — не выдержал Кузя. — Он в крайней хате, на печке сидит?
— На печке, на печке, — широко раскрыв глаза, запричитала старуха. Наши были у него намедни. Живой вроде. Живой? А?
— Живой, живой, бабушка. Его бы надо в лес переправить,
— Он с печки никуда. "Хочу, говорит, помереть в своем доме".
— Ну вот что, бабушка, — подумав, сказал Кузя. — Мы еще к нему сходим. Вот с вашими повидаемся, поговорим обо всем, потом проведаем вашего мужа.
— Какого мужа? Сосед это наш.
— Сосед?
— Сосед.
— И что же? Так вовсе один и живет?
— Один.
Кузя, Слободкин и Инна переглянулись. В такую минуту чужие люди друг о друге пекутся. Хотелось сказать старухе что-нибудь очень хорошее, доброе. Но слов таких не было у них в ту минуту. Все куда-то исчезли вдруг. Только Инна молча обняла старую и поглядела вверх: на самом краю неба шевельнулся тревожный звук.
— Самолет? — Нечистая сила, — перекрестилась старуха.
— Он самый, — сказал Кузя. — Высоко.
— Высоко, высоко! — засуетилась старуха. — К своим надо, к своим!
Самолет действительно шел на большой высоте. Шум его уже доносился настойчиво накатывающимися волнами, но через несколько минут, оказавшись в плотном кольце баб и стариков, Кузя, Слободкин и Инна забыли о самолете.
Их провожатая стояла с гордым видом рядом, продолжая что-то говорить, но слабый голосок ее совсем уже не был слышен. Вопросы сыпались со всех сторон. Кто такие? Откуда? Куда? Что на фронте? И где он, фронт?…
О себе Кузя, Слободкин и Инна рассказали, конечно. А вот фронт? Что там сейчас? И где он, в самом деле? Им вдруг стало мучительно стыдно за то, что не могут дать ответа. Деревенские поняли это и попробовали, как могли, успокоить: