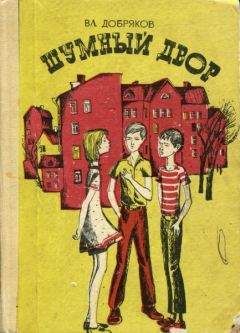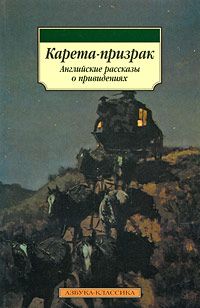Фридрих Горенштейн - Мой Чехов осени и зимы 1968 года

Обзор книги Фридрих Горенштейн - Мой Чехов осени и зимы 1968 года
Фридрих Горенштейн
Мой Чехов осени и зимы 1968 года
Я знаю серьезных людей, которые не любят Чехова. Я не разделяю их взглядов, но отношусь с пониманием к их литературным вкусам. Пушкин начал, а Чехов кончил, и, естественно, на творчестве Чехова лежит печать не только величия, но и вырождения, так как всякое живое явление имеет свою жизнь и свою смерть. Чехов умер раньше Льва Толстого, но именно Чехов подытожил духовный взлет Российского XIX века, да, пожалуй, и духовный взлет всей европейской культуры — эпоху Возрождения, юность свою проведшую в живописи Италии, Испании, Нидерландов, молодость в шекспировской Англии, зрелые годы в музыке и философии Германии, и наконец, уже на излете, уже как бы последними усилиями родившую российскую прозу, на которой лежит подспудный отпечаток усталости и чрезмерных напряжений, свойственных всякой старости, отпечаток старческого ребячества, детской чистой мечты, щемящей грусти по ушедшим годам, наивной веры и мудрой иронии.
В XIX веке мир, благодаря вышедшей из подполья науке, принимал твердые очертания. Религия, опасаясь жестокой мести со стороны своего извечного врага — науки, которой причинила столько страданий, суетливо пыталась приспособиться к меняющейся жизни. Люди XIX века за многие века истинной веры, за опозоренную религией в период своего господства мечту, досадуя на свою доверчивость, которая отняла у них столько земных радостей, начали лихорадочно наверстывать упущенное. Но рядом с атеизмом, научным материалистическим мировоззрением, родилось безверие, мировоззрение не духовно свободных людей, а скорее непокорных лакеев.
Несравненный Стендаль написал Жюльена Сореля, образ, на мой взгляд, этапный, ибо если на вырождение веры потребовались тысячелетия, то на вырождение безверия потребуется значительно меньше времени. Через какие-нибудь 40–50 лет после того, как Стендаль родил Жюльена Сореля, австрийский сапожник Шикльгрубер родил Адольфа Шикльгрубера, а Достоевский — Смердякова. Вот какой жалкий путь в короткий срок проделала талантливая натура Жюльена Сореля, съедаемая внутренним огнем собственной неполноценности. Все лучшее, чувственное, благородное сгорело в этом огне, рассыпалось золой, остался остов, крепкий, не горячий: желание возвыситься и простые, ясные материальные средства к этому. Миллионы обманутых посредственностей, честных обывателей, из поколения в поколение тянущих свою лямку, теперь жаждали мести, и индустриальное капиталистическое общество сулило им равные возможности. Эту-то механизированную армию атаковала в конном строю на нелепом Россинанте российская проза; атаковала безрассудно, по-гусарски, под часто путанными нелепыми знаменами-идеями. Наступило время, пробудившее не только трудовой народ, но и лакеев, сделавших испокон веков плевок в собственное лицо профессией, дающей хлеб насущный, и теперь жадно потянувшихся к свободе выпестованной человеческим гуманизмом, чтоб, оседлав эту свободу, восстановить историческую справедливость, иметь возможность самому плевать в лица и своим бывшим поработителям, и своим менее расторопным братьям. Наступило время, когда хилые баре — вырожденцы, впав чересчур поздно в душевные мученья, словно в старческий маразм, передавали власть злопамятным смердяковым.
У Карла Маркса есть высказывание, я не помню его дословно, но это общеизвестные, часто цитируемые слова, примерно они звучат так: невежество — фатальная сила, и она еще послужит причиной многих трагедий. Мне кажется, что часто растерянность и беспомощность перед этой силой состоит в том, что, совершая ужасающее преступление, она в то же время вызывает к себе не только ненависть и не столько ненависть, сколько невольную жалость, пусть подсознательно, и это ослабляет ответный удар. Если попытаться образно представить себе символ невежества, то это будет не хищный кровожадный зверь, а скорее большой, не по летам фантастически сильный, слепой ребенок. Он сам падает, разбивает себе в кровь лицо, испытывая боль, бьет с размаху неодушевленные предметы, но коль уж удастся ему нащупать, схватить что-либо живое, тут уж мольбы о пощаде бесполезны, в святой простоте он сжимает пальцы на горле жертвы, не отвергая мольбы о пощаде, а попросту не осознавая их, в том смысле, что они даже приводят его в удивление, как удивила бы его мольба не есть, не пить и не испражняться. Но для того, чтобы невежество выросло в прямую угрозу жизни и цивилизации, ему нужен поводырь. И как это ни парадоксально, поводырем таким для невежества служит букварь. Первоначальная, крайне необходимая ступень образования чревата одновременно опасностями, свойственными незрелому переходному возрасту. Научившиеся читать и расписываться невежества периода промышленной революции, по крайней мере сливки его, дослужившиеся до лакеев, начали осознавать прелесть господства и барства, дающую возможность для сытой, вкусной жизни.
«Фашизм и национал-социализм, — пишет Ромен Роллан, — развязаны крупными авантюристами, вышедшими из низов и из разорившейся мелкой буржуазии. Эти авантюристы держат в вечной тревоге своих „благодетелей“ благодаря своим прежним связям с миром труда и нищеты».
Благородный романтический авантюризм Жюльена Сореля стал авантюризмом кухонным, бытовым, стремящимся вырвать жирный кусок колбасы изо рта имущих. Роллан писал о национал — социализме в 30-е годы, когда лакеи повели обезумевшего от голода и нищеты слепца мстить, но главным образом за все синяки и шишки, которые он, слепец, набил сам, ударяясь о косяки и цепляясь за пороги. А также повели выкалывать глаза разуму и образованности.
Но вернемся на 30 лет назад от этого времени в еще полупатриархальную Россию, к не очень громкому, маленькому и нехрестоматийному рассказу Антона Павловича Чехова «Новая дача». Рядом с нищей, убогой, голодной деревней инженер-путеец построил красивую дачу и привез туда жену и дочь. Инженер и жена его стараются сделать как можно больше добра крестьянам, но эти в сущности такие добрые и тихие люди ненавидят и не понимают своих благодетелей, ломают деревья в их саду, совершают потраву скотом своим, топчут все, что можно, воруют, жгут, издеваются над попытками и просьбами жить мирно, по-соседски, и в то же время, когда на даче появляется новый хозяин, презирающий их, они живут с ним тихо, уважительно. Здесь не может быть односложного вывода, тем более вывода о кнуте и страхе. Разгадка здесь не во внешних взаимоотношениях, а во внутренней природе угнетенного человека. Первая реакция человека, подавленного несправедливостью, на свободу и добро — это не радость и благодарность, а обида и злоба за годы, прожитые в страхе и узде. Разумеется, это временный и преходящий период, сопровождающий естественный, а значит, прогрессивный ход истории, крайне незначительный в масштабах человечества, но чрезвычайно значительный в масштабах человеческой жизни и жизни нескольких человеческих поколений. Это болезненный многовековой процесс, начавший созревать в конце XIX века и давший плоды свои в веке XX. В болезненной злобной реакции на первые, слабые еще ростки свободы причина многих трагедий XX века.
Да, неуютно жить в мире, где на непорядочность отвечают непорядочностью. Вот в чеховской «Новой даче» собирается толпа, придравшись к мелкой оплошности со стороны хозяев дачи:
«— Ладно, пускай! — говорит Козов, подмигивая. — Пуска-ай! Пускай повертятся инженеры-то… Суда нет, думаешь? Ладно…
— Это так оставить я не желаю! — кричал Лычков-сын, кричал все громче и громче, и от этого, казалось, его безбородое лицо распухало все больше и больше. — Моду какую взяли! Дай им волю, так они все луга потравят! Не имеете полного права обижать народ! Крепостных теперь нету!..».
Вечером инженер прислал за потраву пять рублей. Получив пять рублей, Лычковы, отец и сын, староста и Володька переплыли на лодке реку и отправились на ту сторону и долго там гуляли. Было слышно, как они пели и как кричал молодой Лычков. В деревне бабы не спали всю ночь и беспокоились. Родион тоже не спал.
«— Нехорошее дело, — говорил он, ворочаясь с боку на бок и вздыхая. — Осерчает барин, тягайся потом… Обидели барина, ох, обидели, нехорошо».
Несколькими страницами далее Родион говорит испуганной и осмеянной толпой жене инженера:
«— Не обижайся, барыня… Ты терпи… Года два потерпи… Поживешь тут, потерпишь и все обойдется. Народ у нас хороший, смирный… Народ ничего, как перед истинным тебе говорю… На Козова, да Лычковых и на Володьку не гляди, он у меня дурачок, кто первый сказал, того и слушает… Прочий народ смирный, молчит… Иной, знаешь, рад бы слово сказать, по совести вступиться, значит, да не может. И душа есть, и совесть есть, да языка в нем нету… Не обижайся, потерпи… Чего там!».
Здесь, пожалуй, Родион ошибается, большинство молчит не потому, что у него нет языка, а потому, что не оно выражает тенденцию времени и явлений. Суть же времени — это хилый, мучаемый комплексами вырожденец и злобный разбушевавшийся лакей. Эти две силы и по сей день грозят миру большими бедами.