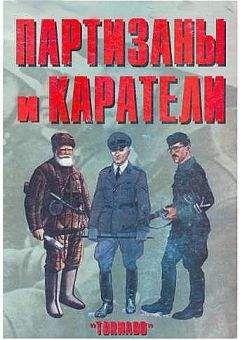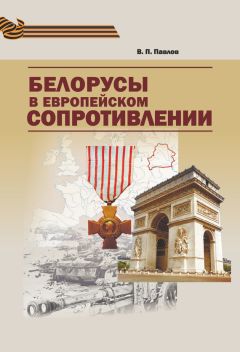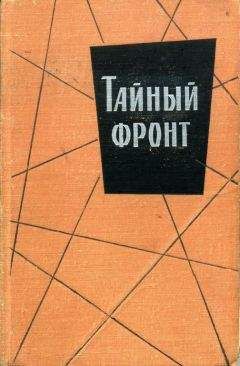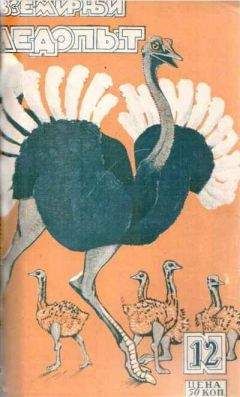Тейн Фрис - Рыжеволосая девушка
— Закончена, ты слышишь это, Рулант? — сказали мы, подталкивая нашего начальника, на которого частенько находило пессимистическое настроение. Он что-то буркнул и сказал нам:
— Лучше слушайте дальше.
Английское радио сделало подробное сообщение о переговорах и затем перечислило принятые в Ялте решения. Германия, германская нация, торжественно заявил диктор, получит возможность вернуться в семью миролюбивых народов. А извечной тирании и извечной агрессии немецкого милитаризма будет положен конец. Немецкий милитаризм исчезнет вообще; вместе с нацизмом исчезнут и воинствующие бароны, фабриканты оружия, генералы и самый источник агрессии, направленной против Европы с тех пор, как существовала Германия, — а именно немецкая армия.
Мы тихо сидели, думая об оккупированной Европе, о виселицах, о стенах, у которых расстреливали людей, о мрачных тюремных камерах, о лагерях и душегубках. Мы думали о мертвых, которых невозможно похоронить, потому что нет досок для гробов. Трупы, завернутые в кусок парусины, в простыню, в старое пальто, укладывали на трехколесный велосипед с коляской или на санки и везли на кладбище. А могильщики частенько встречали родственников умерших требованием выдать им буханку хлеба, кулек пшеницы или фасоли, прежде чем они воткнут лопату в твердую, как камень, землю. Мы думали о повышении цены на наших соотечественников, которых отправляли в Германию: служащие немецкой вспомогательной полиции за каждого схваченного ими голландца получали теперь пять гульденов. Мы думали о судах с продовольствием, которые направляли наши соотечественники из Твенте, из Гронингена в немецкий «форт» Голландию, чтобы хоть немного утолить голод своих собратьев, которых эсэсовцы ловили и выкрадывали… Молча сидели мы у печурки. От мороза стекла в окнах стали белыми и непрозрачными. А за окнами простиралась голландская земля под толстой корой снега и замерзшей грязи. Мне казалось, будто это кора покрывает всю землю и под этой корой отчаянно борется и умирает человечество, потому что так распорядилась кучка немцев, обуянных жаждой власти…
Прошла неделя, в течение которой мороз так измучил нас, и вот наступила тихая погода. Было все еще околo восьми градусов холода, но ветер улегся. Мы решили доставить наконец сверток Мэйсфелта в Гаагу; невыполненное поручение с каждым днем все больше тяготило нас. Мы и на этот раз решили отправиться втроем; на дорогах не прекращались проверки и облавы, и в случае необходимости надо было с оружием в руках защищать жизнь друг друга.
Мы тронулись в путь, но не по шоссе, а по проселочным дорогам, через Рейхенхук, Лэйвенхорст, Рейнсбурх, Фоорсхотен. Мы то и дело отдыхали, как и другие люди, которые встречались нам по дороге — с велосипедами, тележками, детскими колясками. Впрочем, их было не так много.
Когда мы добрались до канала Флит около Фоорсхотен, мы почувствовали, что двигаться дальше у нас нет сил. Поездка наша, казалось, никогда не кончится. Я остановилась, бросила велосипед, он упал на откос, а вслед за машиной свалилась и я сама. Ан и Тинка поступили точно так же. Нам незачем было разговаривать, мы и так понимали друг друга; мы умираем от голода, нам все безразлично, мы близки к отчаянию. Лежа возле дороги, я думала: вот, значит, как это бывает… Признаешь себя побежденной, опускаешь руки, протягиваешь ноги — холод и голод довершают остальное… Мне с трудом удалось овладеть собой, — я испытывала острый соблазн безвольно поддаться усталости. И я растормошила Тинку.
— Пять минут… не больше, — заявила я.
Тинка, по-видимому, думала так же; затем я начала тормошить Ан. Мы поглядели друг на друга, и я повторила:
— Пять минут, не то мы заснем и наши велосипеды украдут.
Ан кивнула, как будто в этом было все дело… Только сейчас я увидела, как похудела у нее шея. Ее молодое прекрасное лицо покрылось морщинами и темными пятнами, а бесстрашная мордочка Тинки обострилась от голода. Мы сказали «пять минут», это значило: не поддаваться усталости, не заснуть… Ан даже поднялась и села, обвив колени руками. Она сказала:
— Ты знаешь, что любопытно в этом свертке, который лежит у Тинки в кармане? Он точь-в-точь такой же, как тот, что я в свое время отвозила шпику из «службы безопасности».
— Что же тут любопытного? — спросила я.
— Гм… Я подумала… Интересно бы узнать, что в нем находится.
— Это уж дело Мэйсфелта, — сказала я.
— Дело движения Сопротивления, — уточнила Ан.
Мы посмотрели друг на друга. А Тинка вытащила сверток из своего глубокого кармана. Мы рассматривали его со всех сторон; он был нетяжелый; вероятно, в нем помещалась деревянная или картонная коробка.
— Ну ладно, — вдруг сказала Тинка. — Я распакую сверток.
— Ты что, рехнулась? — воскликнула Ан. — Таких вещей нельзя делать.
— А почему? Ты же сама говоришь, что это дело движения Сопротивления… Мы тоже ведь участвуем в нем.
Ан подперла рукой щеку и слабо улыбнулась. — Может, ты права. Меня, конечно, разбирает любопытство.
— И меня, — сказала я. — Давай, Тинка. Открывай. Отвечать будем все вместе.
Тинка подула на пальцы и принялась развязывать веревку. Она никак не поддавалась. По очереди дули мы на пальцы, по очереди ковырялись с узлом. Наконец он развязался. Бумагу развернули в одно мгновение. И показался плоский ящичек… «Двадцать пять штук» — прочла я на ярлыке; а между нарисованными золотыми медалями и пестрыми этикетками — слова «Flor de Havana»[60].
— Черт возьми!.. — воскликнула Ан. — Сигары!
— Сигары? — переспросила Тинка, как будто их вид и тонкий, приятный запах дерева и табака ничего не говорил ей. — И ради этого я должна рисковать своей жизнью?
— Разве это дело движения Сопротивления? Снабжать куревом шпиков и полицейских инспекторов? — сказала Ан.
— Вот тебе и связи, — пробормотала я. — Наши друзья из Фелзена могут освободить каждого, кто попадет в когти нацистов. Они расчищают себе дорожку к немецкому милосердию с помощью довоенных голландских сигар…
Слезы подступили у меня к глазам — на этот раз гневные слезы. В моем усталом и продрогшем теле загорелось пламя былой, неукротимой энергии.
— Ну, кончай, Тинка, — сказала я. — Запаковывай все снова… Мы доставим курево господину инспектору Блескенсу. А затем пойдем к Мэйсфелту и потребуем у него объяснения.
Никто из нас не чувствовал более усталости. Мы осторожно, дуя опять на пальцы, упаковали ящичек с сигарами; мы продолжали свой путь, с яростью нажимая на педали. Доехав до Гааги, мы нашли дом человека, которому следовало вручить ящичек. Мы решили пойти к нему вдвоем с Тинкой. Взяв ящичек, мы пошли к тому дому, номер которого Мэйсфелт написал нам на папиросной бумаге. Мы позвонили и подождали немного. Дверь открыл человек в свитере, в черных полицейских брюках и сапогах.
— Господин Баккер? — спросила я.
Он испытующе оглядел меня с ног до головы в высшей степени недоверчиво, если не сказать презрительно.
— Баккер? Нет, — коротко ответил он. — Баккер не живет здесь, и я не знаю такого… Меня зовут Блескенс.
— Тогда правильно, — сказала Тинка. — У нас есть сверток для вас, из Фелзена, вы знаете, от кого.
Мужчина раскрыл пошире дверь, которая была лишь приотворена, и быстро сказал: — Входите.
Мы очутились в длинном, неуютном, очень светлом коридоре, какие бывают в некоторых старомодных, но не старых голландских домах. Блескенс протянул руку к свертку.
— Дайте его мне… и подождите один момент… Я посмотрю, нужно ли дать ответ.
Мы ничего не сказали. И, поглядев друг на друга, стали ждать. Инспектор вернулся через минуту. Очевидно, пальцы у него не были холодными, как у нас, а может, у него был хороший перочинный нож. На его лице ясно было видно удовольствие, хотя он старался не показать его.
— Ответа не будет, — сказал он. — И спасибо вам за труды…
Он еще раз внимательно поглядел на нас, как будто пытался объяснить себе, почему это его фелзенские друзья держат таких оборванных и жалких рассыльных, как мы. Затем он сунул руку а карман брюк и вытащил оттуда бумажный гульден. И немного нерешительно протянул его Тинке.
— Может быть… — сказал он и не успел закончить фразы. Тинка перебила его быстро и зло:
— Спасибо! Денег мы не берем. Мы работаем для Сопротивления.
И мы решительно двинулись к выходу. Ни слова не говоря, дошли мы до перекрестка, где нас ждала Ан. Она вопросительно поглядела на нас.
— Этот болван хотел дать нам гульден… гульден за один ящичек сигар! — сказала Тинка.
— Нет, за труды… — добавила я.
— «Ответа не будет», — передразнила Тинка полицейского. — Ха! За ответом мы сами поедем в Фелзен.
Теперь, когда наша миссия была выполнена, я почувствовала слабость. Мы доставили сверток в Гаагу потому, что нас подгоняло сознание долга и возмущение. А теперь мы стояли на пустынной улице Гааги, усталые, голодные, беззащитные, и растерянно глядели друг на друга.