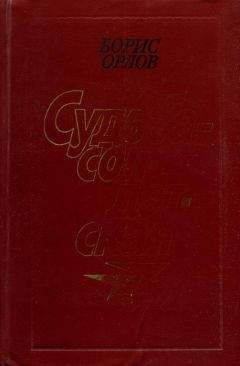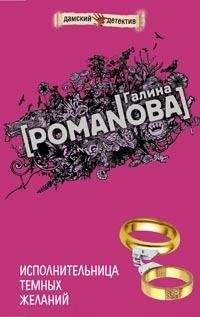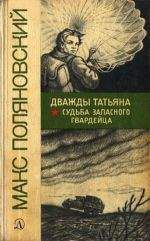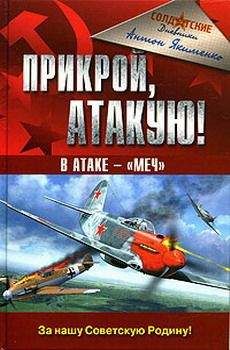Лев Якименко - Судьба Алексея Ялового
Он напрягся, руки как бы сами собой пришли в движение, пальцы настороженно прошлись по столу. Будто мысленно прикинул возможное течение операции.
— У вас же попроще. Пойдем по ходу осколка, уберем парочку остистых отростков, чтобы не мешали, подберемся и выдернем осколочек. Полегче все-таки вам станет.
Встал. Поглядел на поднявшегося вслед Ялового, сказал чуть потеплевшим голосом:
— Мы не маги, голубчик, не волшебники. В вашем случае трудно что-либо предсказать, осколок-то в шее, возле самого позвоночника, место серьезное. Терпеть-то уж сил нет? А?
Взглянул на часы, оттолкнулся от стола, готовый вновь ринуться по бесконечным своим делам. Уже от порога, натягивая при помощи Зинаиды Петровны шубу прямо на халат, приказал:
— Утром на рентген сходите, пусть черту поставят над тем местом, где осколок. И в операционную…
Алеша, здравствуйте!
Долго не писала Вам, не по своей вине.
Случилось так, что и я пошла по госпиталям. Недавно меня резали, зашили, но отпустить скоро не обещают.
А тут принесли Ваши письма, переслали с прежнего места. Каракули Ваши все разобрала. Порадовалась за Вас: какой молодец, сам уже пишет, значит, сила в руке прибывает.
Хворая я оказалась тетка, дорогой мой Алексей Петрович! То ли от старой раны, то ли само по себе… Ударило с такой стороны, с какой и предположить невозможно было. Беду не ждешь, она сама находит.
Страшненькая я стала…
Сны мне снятся глупые, противные. Вчера увидела, будто я на льдине. И меня все дальше относит от берега. Кричу, слышу свой голос, а людей никого. Ледяное безмолвие. На заснеженном берегу надолбы да противотанковые ежи — черные такие пауки. Плакала так…
Перечитываю Ваши письма. Вспоминаю наши встречи. Как же все быстро проходит! Даже жизнь… Многое ли мы успели?
Вы мне пишите. Если захотите… Буду молчать — не обижайтесь. Такая судьба. Бессильны мы…
Смотрю на Вас, далекий мой… Может, хотя на Вашу долю выпадет немного счастья.
Если будет у Вас семья, то будет хорошая, я знаю это, поверьте мне. И дети будут у Вас хорошие. Набирайтесь сил. У Вас впереди еще надежда.
Все соединилось: письмо Ольги Николаевны и непроходящая боль, сон и кошмарные видения. Будто захватило его крючком и тащит, волочит, бьет, колет. По бесконечной пустыне. И невозможно освободиться, вырваться.
Мгновенная задержка. И сразу вырастающий оглушающий вой. Страшный взрыв потрясает все его тело. Кружащий звон в голове…
— Товарищ капитан! Товарищ капитан!
Прохладная рука на лбу. Выросшие в полутьме озабоченные глаза Насти — ночной сестры.
Медленно приходит в себя. Как будто возвращается из того мира, из небытия.
Начинает понимать, что по прошествии времени оглушенное сознание возвращает ему память того разрыва… Тогда он не услышал свиста снаряда, не ощутил удара. Но сознание в своих тайниках сохранило, оказывается, и это.
Сколько раз потом и в госпитальной палате, и на студенческой койке в общежитии его будет будить сверлящий вой и страшный, сотрясающий все взрыв…
Спросил сестру, который час. Половина второго.
Но сестра, оказалось, зашла по делу. С час назад возвратился из командировки нейрохирург майор Иван Павлович Удалов. Собственно, он-то и был ведущим, ученик знаменитого Бурденко, ассистент в его клинике. Негласное разделение привело к тому, что Удалов вел «черепников», а профессор Вознесенский, специалист по общей хирургии, так называемых «спинальных» и прочих. Временами они подменяли друг друга. Когда Ялового привезли в этот госпиталь, его принимал Удалов. Несколько раз смотрел при перевязках и в палате. Настя и скажи ему, что Яловой завтра идет на операцию. Удалов почему-то обеспокоился, попросил историю болезни и теперь, несмотря на поздний час, еще раз хотел посмотреть его.
Иван Павлович поджидал его в перевязочной, у бокового столика, покрытого клеенкой. Ладонями сжал стакан с чаем, будто грел их. Коричневый отсвет ложился на его пальцы. Сухие, сильные, длинные, они чуть шевелились, он давал им отдых после изнурительной работы. Они странно не согласовывались с мясистыми ладонями, с бугрящимися под халатом могучими руками, с грузно повисшими плечами, со всем громоздким обликом усталого мастерового или грузчика после тяжкой работы.
— Извините меня, что поднял вас ночью, — тихо проговорил Удалов. Он всегда говорил тихо. Спокойно. Ни крика. Ни раздражения. Может, поэтому все в госпитале так верили ему. Скольких он от смерти увел. Многочасовые операции. Ювелирная тончайшая работа.
— Нейрохирург не имеет права торопиться, — сказал он как-то Яловому. — Малейшее неверное движение, отклонение на миллиметр, и мы можем причинить непоправимую травму.
…Настенные часы в коридоре пробили три, когда Удалов отпустил Ялового. Укладывал его, поднимал, ставил на колени. Стучал молоточком. Колол иглой. Сантиметр за сантиметром. Долго разглядывал снимки, приподняв их к свету.
Откинулся на стуле, снял очки, и только теперь Яловой догадался, как устал доктор: под красноватыми глазами чернота, веки с короткими ресницами слипались сами собою.
— Сестричка ваша сказала, что вы завтра идете на операцию.
— Я ожидал вас. Но…
— Меня услали в командировку. Много оперировал. Не успел раздеться, вызвали сюда. Новенького одного надо было посмотреть.
Взял Ялового за руки, приблизил к себе. Сидел, а глаза почти на уровне лица Ялового. Здоровенный мужик какой!..
— Потерпите, капитан, а?.. Вы уже сколько перетерпели. А тут недельку, ну самое большее десяток дней выждать. Осколок осумкуется и притихнет. Операция все-таки крайний случай.
— А если бы вы оперировали?
— Это не имеет значения. В данном случае. Не хочу вас пугать, но по-разному может повернуться. Не исключаю возможности общего паралича. Как мы вас будем из него вытаскивать, не совсем представляю. Ваш осколок свое уже сделал. Удар, кровоизлияние в позвоночник. Уберем мы его или не уберем — последствия останутся. Что же вас еще раз травмировать без крайней необходимости? Наберитесь мужества. Терпите! Ничем другим вам помочь нельзя.
На том и порешили. Яловой утром на операцию не пошел.
Жалел. Не один раз.
Всякий, кто лечил зубы, знает, что происходит в то мгновение, когда крохотный бур, преодолев защитную оболочку, обнажает нерв. Ожидающие в приемной вздрагивают от вскрика или стона, который доносится и до них. Для Ялового такие мгновения продолжались часами. Сверлящая боль поднимала, гнала его. Страдальчески выворачивая шею, шлепал по коридору. Бессмысленные, затянутые пеленой глаза. Глохнущие голоса. Рвущийся дикий, нечеловеческий крик. Какой волей, какими усилиями глушил его…
В такие часы: режьте, пилите. Все что угодно. Только освободи-и-те!
Топ, топ… До угла. Теперь повернем. Терпи. Ну потерпи. Сейчас полегче станет. Отпустит. Освободит. По-терпи-и-и!
Выдержал. Выходил. Дождался облегчения. Устроился проклятый осколок. Запеленался в капсулу.
Боль оставалась. То слабее становилась, глохла, то неожиданно взвивалась, скручивала, рвала… Вновь отступала. Посвободнее становилось. Можно было дышать. Жить.
Много раз вспоминал Ивана Павловича Удалова. Поклонился бы ему! Не за самый совет. За то, что в неурочный ночной час, только что вернувшись из командировки, все же набрался сил, вызвал его, осмотрел. Значит, жило в нем беспокойство. За чужую жизнь. Врач не тот, кто выписывает нам лекарства, а тот, для которого ваша жизнь как своя. Тогда он не только врач. По профессиональным своим обязанностям.
17
«Когда случилось петь Дездемоне, А жить так мало оставалось, — Не по любви, своей звезде, По иве, иве, разрыдалась».
Звучала, страдала, исповедовалась душа человеческая.
«Сестра моя жизнь…» — как пронзительно точно назвал Пастернак одну из своих ранних книг!
Книги лежали у Ялового под подушкой, на тумбочке. Долго не удерживал в руках книгу. Подпирал коленкой. Читал. В перерывах между процедурами, осмотрами. Малейшая фальшь раздражала, как комариное зудение. Многое казалось теперь лживым, нагло-беспомощным. Бросал. Не мог смотреть на сыто черневшую строку. Самое простое, непосредственное, искреннее, о чем раньше и не задумывался, трогало до слез.
Ему казалось, что он теперь способен был твердо различать, где п р а в д а, а где н е п р а в д а. Суд правды ему казался единственно возможным и признаваемым в искусстве.
Долго размышлял над одним рассуждением Чехова из письма к Суворину. (Ему принесли переписку Чехова.) Может, только письма Флобера, которые он прочитал еще в первые студенческие годы, могли сравниться с перепиской Чехова по ошеломляющему чувству новизны, необычности. Как будто писалась особая, сокровенная книга, в которой смутно угадывалось и то, что происходило в действительности, и то, что затем, странное, преображенное воображением, памятью, фантазией, представало в книгах. В художественном произведении. По каким же законам совершались эти превращения? Что определяло это чудо?