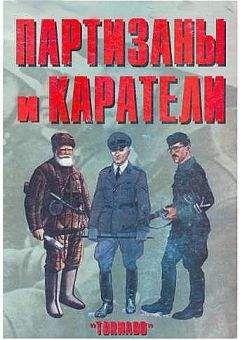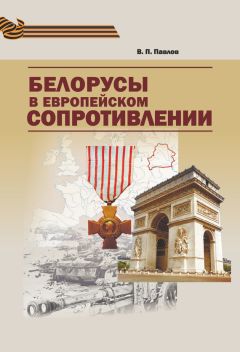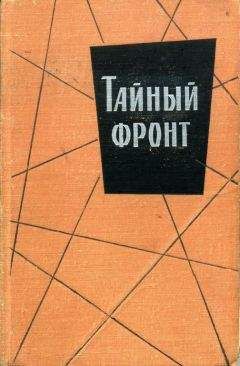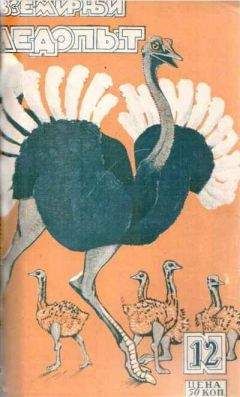Тейн Фрис - Рыжеволосая девушка
Возвращаясь в Гарлем, мы долго еще разговаривали, обсуждали дело со всех сторон и наконец решили все же взяться за него. Возможно, нас толкнуло на это тщеславие — выполнить задание силами одних девушек, без участия мужчин! Но, возможно, здесь сыграло роль также честолюбие борцов гарлемского Совета Сопротивления, который никогда не отступал перед опасностями. Решение это пришло к нам еще потому, что мы снова испытывали душевное напряжение: помимо ужасов голода, постигшего Голландию, начались облавы, которые устраивали среди населения Вестланда стоявшие там лагерем нацистские войска; они практиковали также разбойничьи, грабительские набеги и угоняли наших мужчин на оборонительные сооружения вдоль рек. Об этом сообщалось в последних донесениях.
Впрочем, как мы заметили, у нас не было никаких причин сомневаться в желании участников фелзенской группы Сопротивления бороться против оккупантов. В канун рождества, перед тем как отправиться на задание по добыче боеприпасов, мы услышали, что были потоплены два инспекционных судна немецкого военно-морского флота, стоявшие в гавани Эймейдена. Когда мы явились на следующий день в фелзенский штаб, там царило общее ликование. Когда мы поздравили товарищей с удачным налетом, Маартен на радостях выдал нам лишнюю порцию вареной коричневой фасоли, причем мы обнаружили в ней даже заблудившийся кусочек свиной шкурки.
Прежде чем отправиться в этот день в Эймейден, Ан, Тинка и я дали друг другу торжественное обещание. Мы достаточно хорошо знали об арестах и пытках, которым немцы подвергали свои жертвы. Мы слышали рассказы о людях, которые слыли самыми стойкими и надежными, но под пытками нацистов не выдерживали. Мы обещали друг другу, что мы — никто ведь не знает себя — не допустим этого. Если нас арестуют всех вместе, мы выпустим друг в друга все пули из наших револьверов, чтобы избежать мучений или позора.
Я все время думала об этом обещании, когда мы с Арендом во главе ехали на велосипедах к обезлюдевшему рыбацкому затону, где все еще стоял запах бывшего рыболовецкого предприятия. Этот запах настроил меня на сентиментальный лад, хотя прежде я его терпеть не могла. В углу рыбачьей гавани тесно прижатые друг к другу стояли коричневатые, облепленные снегом одномачтовые рыболовные суда. Там летали одни лишь чайки, хрипло кричавшие от голода. Смеркалось. С моря тянуло резким, жгучим холодом: замерзшая чистота! Мои конечности опять утратили чувствительность, а беспощадный морской ветер кусал мне щеки и сквозь старые вытершиеся варежки — руки. Внезапно меня охватило страстное желание увидеть море. Я подсчитала, что не видела моря с 1942 года. И представила себе, какая сейчас вода — яростные, стального цвета волны, вот наше море зимой. Суровый и жестокий наш союзник в борьбе с фашистским отребьем внутри Европы… Это море как бы символизировало жестокую действительность; на душе у меня лежала тяжесть; вспоминая наш уговор, я слезла с велосипеда. Я двигалась как бы в тревожном, мрачном сне; наконец подъехали и слезли Ан с Тинкой. Голос Аренда из-за поднятого мехового воротника доносился, как из-за бруствера:
— Здесь я поверну назад; мы находимся, собственно говоря, уже в запретной зоне… Вы пойдете мимо этого кафе; дальше есть небольшая тропинка, она сама приведет вас куда надо. Вы наткнетесь на деревянную стену. На вывеске там написано «Упаковка сельдей Вессела»; буквы такие огромные, что их можно прочитать даже в сумерках… Дальнейшая программа действий вам известна. Желаю успеха.
Аренд говорил все тише и быстрее. При последних словах он пожал нам по очереди руку, а когда желал успеха, уже закинул ногу через седло. Он укатил обратно. Мы остались одни в сизых сумерках, среди сизых домов, и лишь, сизые чайки летали в небе. Между близким морем и нами находилось укрепление из бетона и стали, один из самых страшных образцов оборонительных сооружений, которыми немцы испоганили нашу береговую полосу. Вот из этого-то бастиона и будет изъято пятьдесят кило боеприпасов, и эти пятьдесят кило должны увезти отсюда мы, девушки…
Мне пришлось взять себя в руки, когда мы добрались до пустого помещения для сортировки и упаковки сельдей. Внутри стоял туман и мрак, и мы то и дело стукались о беспорядочно нагроможденные ящики. Холодный безжизненный воздух в помещении был насыщен рыбными запахами гораздо больше, чем возле гавани. Где-то наверху, у сломанного конька крыши, свистел ветер. Ветер с моря, подумала я. В этом море плавали где-то наши «свободные матросы», сражались наши моряки, сопровождали суда с боеприпасами, неся в своей душе кусочек нашей родины, той тайной родины, которую представляли мы, те, кто заботился о ней и защищал ее своим телом.
— Ты что, плачешь? — раздался вдруг голос Ан.
Я сама только что заметила, как слезы катятся у меня по щекам.
— Я… ничего, — поспешила я сказать. — Только… Просто невозможно поверить, что сегодня рождество.
— Ты права, — ответила Тинка. Голос ее звучал несокрушимо молодо и весело. — Единственное только и есть утешение… Свинство приняло такие размеры, что дальше ехать некуда. Должно же стать когда-нибудь лучше.
— Да, конечно, — подтвердила Ан. Она сидела рядом со мною, обняв меня за плечи. — Мне знакомо это чувство… Так бывает от голода. Если ты понимаешь, то тебе уже легче переносить все невзгоды.
Я высморкалась и сказала: — Рассудком я все понимаю. Но иногда… Ах, да что толковать! Мы должны пережить все это. Пережить этот день и все последующие дни. Пока не восторжествует честность и порядочность, как говорит Вейнант…
— Вот это подходящий разговор, — сказала Ан. — Господи, какая в этом сарае вонища… А ведь сколько лет тут уж и рыбы-то не было… Неужели не могли они там, в фелзенском штабе, подыскать для нас какую-нибудь завалящую парфюмерную фабричку?
Обе сестры старались — я оценила их мужественные усилия — обратить все в шутку, они припомнили старые анекдоты о Гитлере, которые я давно уже слышала, о «подвигах» немецких морских и военно-воздушных сил, которых больше не существовало, хотя по нашей стране все еще шатались немецкие матросы и другие дезертиры. Я восхищалась Ан и была ей благодарна: в который раз я убеждалась, как много силы таится в сердце рабочего класса. Девушкам, видимо, досталась суровая юность, гораздо суровее, чем моя. Они пришли в движение Сопротивления в том возрасте, в каком я, получив первое пособие от отца, имея самые путаные представления о сущности жизни, поселилась в амстердамском мезонине вместе с Луизой и Таней. Сестры испытали на себе почти все удары судьбы, которые могли обрушиться на девушек в наиболее уязвимом возрасте. Они сами сберегли себя, они были внутренне закалены и, сидя здесь в старом рыбном сарае, как смутные тени, рядом со мною, прилагали все усилия, чтобы меня подбодрить… это меня-то — а ведь я дала себе обещание носить на сердце броню до тех пор, пока я не выполню своего долга перед родиной…
И я заковала себя в броню. Я знала: все, решительно все стало неизбежным и необходимым — кошмар, голод, обязанность уничтожать врага, где бы ты его ни встретила.
…Мы начали мечтать, как делали это порой в нашем штабе, да и не только в штабе. Мы составляли самые роскошные рождественские меню. Мы подавали к столу печеное тесто, мясо, пудинги, орехи, мед, фруктовые компоты, свежие овощи, конфеты, мы садились за стол, который ломился от изобилия. Дикие и нелепые желания, которые обычно одолевают людей с голодным желудком! Раньше мы читали о таких явлениях лишь в книгах приключений для юношества или в страшных рассказах о заблудившихся путешественниках и полярных исследователях… Мы мечтали до изнеможения, до одурения. Сидя на ящике из-под селедок, я начала дремать, Ан и Тинка тоже стали менее словоохотливы. Словно издалека доносились их голоса, прерываемые ветром и криком чаек — единственными звуками в этом заброшенном помещении для упаковки селедок.
Я вздрогнула, когда прозвонил колокол, хотя колокола звонили и раньше; я взглянула на свои ручные часы. Слабо светящиеся, как бы поблекшие ниточки стрелок показывали девять.
— Пора, — сказала я.
Слышно было, как зевнула Тинка. Видно, девушки тоже вздремнули. Мы завязали пояса наших непромокаемых плащей, покрепче стянули головные платки и вышли из рыбного сарая, держа руку на револьвере.
Ветер с моря дул прямо вдоль улицы; она была вся в рытвинах от тяжелых немецких машин и покрыта сверху ледяной коркой — та самая улица, вдоль которой, бывало, в солнечный день на фоне летней синевы неба и палевых дюн — до чего давно это было! — тянулись в светлой одежде голландские граждане К пляжу в Эймейдене… Я сама не понимала, откуда у меня эта горькая сентиментальность. В других случаях я не раздумывала над подобными вещами, все свое внимание сосредоточивала на порученном деле. Может быть, на этот раз чутье подсказывало мне, что следовало уклониться от этого задания и тем избавиться от опасности; возможно, что в глубине души у меня таился смертельный страх… Из-за снега не стало видно звезд; низко нависли тучи, воздух был тяжелый, бушевал ветер. Когда жалкие строеньица, которые более или менее прикрывали нас по дороге к бетонированному укреплению, остались позади, мы почувствовали себя очень неуютно, оказавшись беззащитными на зимнем ветру.