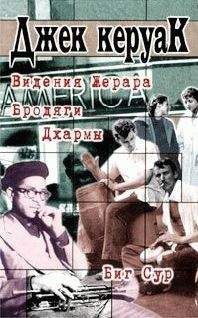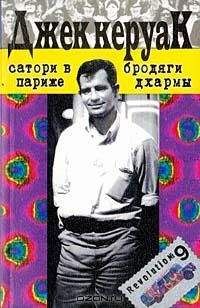Джек Керуак - Доктор Сакс
СЦЕНА 6. Дерево это упало наконец в Ураган, в 1938-м, теперь же оно еще лишь гнется и жилится с могучим древесночленным стоном, мы видим, где сучья рвут свою зелень, точка сращения древесного ствола с ветвенным стволом, метанье диких очерков вверх тормашками, бьющихся на ветру, — с резким трагичным треском меньшей ветки, сверженной с древа гончей бури —
СЦЕНА 7. Вдоль плещущих луж траводвора, на уровне червей, эта падшая ветвь глядится громадой и обезумевшей на руках под градом —
СЦЕНА 8. Мои мальчонкины голубые глазенки сияют в окне. Я рисую корявые свастики на запотевшем окне, то был один из самых любимых моих знаков еще задолго до того, как я услыхал о Гитлере или нацистах, — за моей спиной вдруг видно, как улыбается моя мама, — «Tiens, — говорит она, — je tlai dit qu'eta bonne les pommes (Ну вот, я ж тебе говорила, хорошие это яблоки!)» — нагибаясь надо мной тоже поглядеть в окно. «Tiens, regard, Геаи est deu pieds creu dans la rue (Вот, глянь, улицу водой на два фута залило) — line grosse tempête (большая буря) — Je tlai dit pas allez école aujourdhui (Я говорила тебе не ходить сегодня в школу) — Wé tu? сотте qui mouille? (Видишь? как льет?) Je suis tu тупица? (Я разве тупица?)»
СЦЕНА 9. Оба наши лица ласково выглядывают в окно, смотрят на дождь, он дал нам возможность провести вместе приятный денек, можно угадать, как дождь обрушивается на сторону дома и окно, — мы не уступаем ни дюйма, лишь нежно глядим на него — будто Мадонна с сыном в окно фабричного Питтсбурга — только это Новая Англия, наполовину как дождливые валлийские шахтерские городки, наполовину Прыгучее субботнее утро ирландского пацаненка, с розовыми лозами — (Дерзкое Предприятие[63], когда настал май и дождь прекратился, я играл в мраморки в грязных ямах с Жирой, они за ночь заваливались цветами, нам приходилось их откапывать каждый день, чтобы поиграть, цветы с деревьев проливным дождем, Дерзкое Предприятие в ту субботу выиграл Дерби) — У мамы за моей спиной в окне лицо овальное, волосы темные, большие синие глаза, она улыбается, милая, в платье х/б тридцатых, которое она носила по дому с фартуком — на нем вечно мука и вода от работы с приправами и печеньями, чем она занималась в кухне —
СЦЕНА 10. Там в кухне она и стоит, вытирая руки, а я пробую ее кексик с глазурью (розовой, шоколад, ваниль, в чашечках), она говорит: «Все эти кинофильмы, где старушка-бабушка на Западе шлепает внучонка своего пограничного, лупит его да приговаривает: «К печеньицам и близко не подходи», а? Ля старая Мама Анжелика с тобой так не поступает, а?» «Не, Ма, ух, — говорю я, — si tu sera сотте çа jara toujours faim (He, Ma, yx, будь ты такая, я б вечно голодный ходил)» — «Tiens — assay ип beau blanc d’vanilla, c’est bon pour tué (Ну вот, попробуй-ка хорошенький белый с ванилью, тебе полезно)». — «Ох ничё себе, blanc sucre! ("…") (Ох ничё себе, белый сахар!)» — «Bon, — твердо говорит она, отворачиваясь, — asteur faut seirez топ lavage, je lai rentrez jusquavant quil mouille (Ладно, теперь стирку надо убрать, успела занести как раз до дождя)» — (а по радио тридцатых передачи старых серых мыльных опер и новостей из Бостона про копченую пикшу и цены, от Ист-Порта до Сэнди-Хука, угрюмые радиоспектакли с продолжением, статика, гром старой Америки, что громыхала по равнине) — Пока она отходит от печки, я говорю, из-под маленького своего черного теплого свитера: «Moi's shfués fini mes race dans ma chamber (А мне надо гонки закончить в комнате)» — «Amuse toi (развлекайся)» — отзывается она — видны стены кухни, зеленые часы, стол, теперь еще и швейная машинка справа, у двери на крыльцо, резиновые сапоги и галоши вечно навалены в дверях, кресло-качалка стоит лицом к масляной печке — пальто и дождевики висят на крючках по углам кухни, буродревесные навощенные панели на буфетах и стенной обивке везде кругом — снаружи деревянная веранда, поблескивает от дождя — угрюмство — на плите что-то вскипает — (когда я был совсем мелкий пацанчик, я обычно читал смешилки на пузе, слушал с полу кипучие воды на плите, с ощущением неописуемого мира и бормота, пора ужинать, пора комиксов, пора картошки, пора теплого дома) (вторая стрелка на зеленых электрических часах неумолимо вращается, сторожко сквозь войны пыли) — (На нее я тоже смотрел) — (Ваш Таббз[64] на древней смешностраничке) —
СЦЕНА 11. Опять гром, теперь вы видите мою комнату, мою спальню с зеленым письменным столом, кроватью и стулом — и другой странной мебелью, «Виктрола» уже с заряженной «Дарданеллой»[65] и ручка висит наготове, стопка печальных толстых пластинок тридцатых, среди них «Щека к щеке» Фреда Астэра[66] и «Парад деревянных солдатиков» Джона Филипа Сузы[67] — Слышны мои шаги, безошибочно топочут по лестнице на бегу, плёп-плоп-плуп-плип-пип, и я влетаю в комнату и закрываю за собой дверь, и хватаю свою швабру, и, крепко упершись в нее ногой, прометаю узкую полосу от стены у двери к стене у окна — Так я готовлю гоночную дорожку — на обоях видны огромные арахисовые линии розовых кустов по тусклой смутной штукатурке, и картинка на стене изображает лошадь, вырезанную из газетной страницы («Утренний телеграф»[68]) и прикнопленную, а еще картинка с Иисусом на Кресте в кошмарной старолитографской темноте, сияющая сквозь целлулоид — (если подойдете ближе, увидите черты кровавых черных слез, пролагающих путь вниз по его трагической щеке, О ужасы тьмы и туч, ни людей, кругом лишь бурный ураган его скалы в пустоте — ищешь взглядом волны — Он вошел в волны ногами в серебристом облаченье, Петр был Рыболов, но на такой глубине никогда не ловил — Господь обратился к собравшимся темным толпам и говорил о мрачной рыбе — хлеба преломили… чудо пронеслось по всему лагерю, точно развевающаяся накидка, и все поели рыбы… врубайтесь в своих мистиков в какой-нибудь другой Аравии…). Швабра, которой я швабрю узкую полосу, — просто старая шваберная рукоять со смердючей сухотряпошной главой, точно старушечьи волосы у тупейных художников, — вот я проворно опускаюсь на колени подмести пальцами, нащупывая песчинки или стекляшки, гляжу на кончики пальцев тщательным дуновеньем, — проходят 10 секунд, а я готовлю пол, это первое, что я делаю, захлопнув за собою дверь — Сначала вы видели мою одну сторону комнаты, когда я вхожу, затем налево к моему окну и мрачному дождю, что на него брызгает, — подымаюсь с колен, вытирая пальцы о штаны, медленно поворачиваюсь и, поднеся кулак ко рту, пускаюсь в «Та-та-та-тра-тра-тра-и-т.-д.» — призыв горниста на гонках, все к столбу, чистым, хорошо модулированным голосом, на самом деле пою разумную голосовую имитацию трубы (или горна). И в промозглой комнате ноты отдаются печально — Я выгляжу фатовато в этом самонаведенном изумлении, прислушиваясь к последней печальной ноте, и молчанию дома, и щелчкам дождя, и теперь уже ясно звучащему гудку «Мануфактуры Бутта» или «Мануфактуры Фатта» — он доносится громко и скорбно из-за реки и дождя снаружи, где Доктор Сакс даже теперь готовится к ночи, с его темной мокрой накидкой, во мглах — Мой тонкий след для гонок начинался на картонке, опертой о книги, — с доски «Парчизи», — сложенной на сторону «Домино», чтобы сторона «Парчизи» не выгорала (предшественница того, что нынешняя доска «Монополии» на другой стороне запечатана шашками) — не, погодите, у доски «Парчизи» обратная сторона была сплошь черная, вниз по ее суровому полотну, все такие твердые и круглые пускались вперегонки мои мраморки, когда я выпускал их из-под линейки — На кровати выложены в линию восемь моих гладиаторов гонки, это пятый заезд, сегодняшний гандикап.
СЦЕНА 12. «А теперь, — произношу я, низко нагибаясь над кроватью, — а теперь Пятый Заезд, гандикап, четырехлетки и старше и т. д.» — «и вот Пятый Заезд по гонгу, давай, Ti Jean airete de jouet[69] и кончай уж — они рвут к столбу, лошади рвут к столбу» — и я слышу, как это эхо отдается, пока я говорю, руки вздымаются перед выстроившимися лошадьми на одеяле, я озираюсь, как скаковой болельщик, спрашивая себя: «Скажите-ка, скоро точно польет, они рвут к столбу-то?» — что и делаю — «Что ж, сынок, лучше ставь-ка пятерку на Летучего Эбена[70], старушка не подведет, она против Кранслита на той неделе неплохо выступила», «Лады, Па! — принимая новую позу, — но я вижу, забег выигрывает Приятель[71]». «Старина Приятель? Не-е!»
СЦЕНА 13. Несусь к фонографу, включаю «Дарданеллу» пусковым крючком.
СЦЕНА 14. Проворно я встал на колени у стартового барьера гонки, лошади в левой руке, линеечный барьер, прижатый к линии старта, зажат в правой, «Дарданелла» — дадарадера-да, рот у меня открыт, вдыхает и выдыхает сипло, это шум толпы на скачках — шарики хлопаются на место под грандиозные фанфары, я их подравниваю: «Ой, — говорю я, — осто — рожней, о-с-т-о-р-о-ж-н-о нет — НЕТ ЖЕ! Приятель вырвался от помощника стартера — возвращается — Жокей Джек Льюис у него на спине в раздражении — вот поставим их поровнее — «лошади у столба!» — Ох, вот старый дурень, мы это и так знаем» — «Вперед!» «Что?» «Они рвут вперед! — йотт!» вздыхает толпа — бум! Они рвут вперед — «Я из-за тебя пропустил старт с этим твоим трепом — а Приятель начинает вести рано!» И я взглядом срываюсь вслед за шариками.