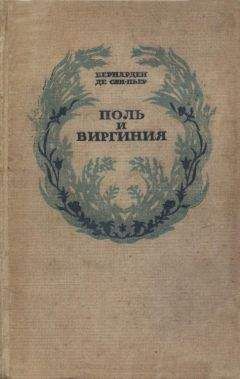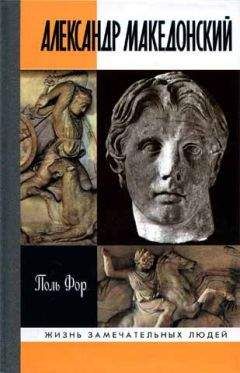Грубиянские годы: биография. Том I - Поль Жан
№ 48. Лучистый колчедан
Ночь в Розенхофе
Ни Якобина, ни генерал никогда не делали тайны из этого – а именно, из своей общей тайны; поэтому родственники обоих никак не вправе затеять какую-либо юридическую процедуру против автора «Грубиянских годов», если в Лучистом колчедане он просто холодно констатирует, что Заблоцкий пошел немного прогуляться в ближайший сад, а актриса Якобина – не столько случайно, сколько с оправданным намерением передохнуть после исполнения роли Иоганны фон Монфокон – отправилась туда же. Еще меньше оснований, чем для нападок на пишущего автора, имеют высокопоставленные родственники для опровержения расхожих сентенций, например, такой: что театральный лавр, если он женского пола, очень легко снова превращается в Дафну:; или еще одной: что актриса после исполнения трудной трагической роли добродетельной женщины запросто может стать собственным театром aux italiens и пародией на саму себя; или такого высказывания (наименее сомнительного): что военные, будь то в военное или в мирное время, напоминают греческие предметы мебели, как правило, стоящие на Сатаровых копытах; и, наконец, того мнения, что никакие другие сообщества не ищут друг друга с большим упорством и не находят между собою большего сходства, чем компания актеров и реальные или потенциальные участники военной кампании (о чем свидетельствует даже сопоставление слов: «театр военных действий» и «театральная война», «действие» и «военные действия», «компания» и «кампания»).
Итак, сообщив, что эти двое отправились на прогулку, я перейду к дальнейшему – надеюсь, так же спокойно и без помех, как они.
Лицо Вальта, ввиду отсутствия генерала, уподобилось розе. Вина опустила глаза, которые, как сладкие плоды, скрывались под широкими листьями век и под шляпой – на свое вязание: длинную детскую перчатку, незавершенную. На нотариуса опять напал страх, что Вина его презирает: как предателя, отдавшего в чужие руки ее письмо. Он не часто отваживался взглянуть на нее – из опасения, что и она случайно поднимет глаза. Оба молчали. Женское молчание – уже хотя бы потому, что оно нам привычнее, – значит гораздо меньше, чем мужское. Возбуждающее воздействие, которое могло бы оказать на нотариуса выпитое вино, приглушалось стремлением Вальта играть роль деликатнейшего компаньона. Между тем сложившаяся ситуация отнюдь не казалась бы ему неприятной, если бы он не боялся каждую минуту, что она – очень быстро закончится.
Наконец, после весьма пристального и долгого разглядывания перчатки, Вальт почувствовал себя счастливым, поскольку вытянул-таки из нее нить разговора: а именно, из перчатки он почерпнул мысль – которую тут же и высказал, – что много раз целыми часами наблюдал за вязанием и все же так и не понял, как это делается.
– Всё очень просто, господин Харниш, – ответила Вина (не насмешливо, а непринужденно), не поднимая глаз.
Обращение «господин Харниш» вновь загнало того, к кому оно было обращено, в картезию думания и молчания.
– Как это получается, – сказал он, с запозданием выйдя из своего убежища и вновь подхватив шерстяную нить разговора, – что ничто другое не кажется нам таким трогательным, как предметы одежды милых детей, например эта перчатка… но и их шапочки… ботиночки? – То есть, в конечном счете: почему мы так сильно любим их самих?
– Может, среди прочего и потому, – ответила Вина, подняв большие спокойные глаза на нотариуса, который стоял перед ней, – что они – невинные ангелы на нашей земле, и все-таки уже претерпевают многие горести.
– Поистине, так оно и есть (подтвердил Вальт, а Вина между тем, словно прекрасное тихое пламя, сияя, поднялась перед ним, чтобы звонком вызвать свою девушку). И разве взрослые вправе жаловаться? В самом деле (прибавил он и прошел несколько шагов вслед за Виной), со смертью ребенка я бы еще мог смириться, а вот с детским плачем – нет; потому что в первой чувствуется ужас сакрального.
Вина обернулась и кивнула ему.
Пришла Луция; Вина спросила, не оставил ли ей генерал какого-то поручения. Луция ничего не знала, кроме того, что видела, как генерал отправился на прогулку в ближайший сад. Вина поспешно подошла к освещенному луной окну, со вздохом один раз глотнула воздуха и быстро сказала: «Подай вуаль, Луция! Так ты, дорогая девочка, знаешь это наверняка и знаешь, где находится сад?» – Тихим голосом, каким может говорить разве что моравская сестра, Луция ответила: «Да, милостивейшая госпожа!» Вина набросила на шляпу вуаль и, став вдруг неописуемо прекрасной и обворожительной под этим тканным туманом, этим летящим летом, обратилась к нотариусу, слегка запинаясь: «Дорогой господин нотариус… Вы ведь тоже, как я слышала, любите природу… а мой добрый отец…» —
Но он уже полетел за своей шляпной клюкой, уже вернулся и стоял во всеоружии, готовый к странствию, – и вышел из комнаты вслед за двумя девушками. Покинуть чужую комнату – на это Вальт, как он чувствовал, имеет полное право. Но поскольку комнату еще нужно было запереть, он опять оказался стоящим впереди, ближе к лестнице; и внутри него начался короткий спор, или схватка: вправе ли он – или, скорее, должен ли сопровождать Вину – или, может, ни то и ни другое. Вина в данный момент не могла позвать его обратно – так что он, внутренне фехтуя, спустился по лестнице и донес эту свершавшуюся в нем беззвучную рукопашную до самой двери подъезда и даже дальше, до крыльца.
Кончилось тем, что Вальт без дальнейших околичностей присоединился к двум девушкам и переместил шляпу с клюки на свою голову; однако он дрожал, не столько от страха или радости, сколько от ожидания, которое вмещает в себя обе эти эмоции. О, в ранней юности есть смешная и чистая пора, когда в юноше оживает французская рыцарственность со свойственной ей священной робостью и когда как раз самый пылкий становится самым нерешительным: потому что свою деву, которая представляется ему созданием, слетевшим с небес и опять улетающим на небо, он почитает так же, как какого-нибудь великого мужа, близость с которым представляется ему священным кругом некоего высшего мира и чья рука, когда он к ней прикасается, воспринимается им как дар. Несчастен, исполнен вины тот юноша, который никогда не робел перед красотой.
Три человека шли по лесистой улице по направлению к саду. Луна рисовала на светлой пешеходной дорожке колеблющуюся горную цепь – каждой дрожащей веточкой. Луция рассказывала, как красив сад; и особенно – совершенно голубая беседка в нем, сплошь сплетенная из голубых цветов. Голубая горечавка – голубые звездочки ифейона – голубая вероника – голубой ломонос: они сплелись, образовав маленькое небо, в котором как раз осенью нет ни единой тучки, то бишь нераскрывшегося бутона, а только открытые, эфирного цвета чашечки.
– Поскольку цветы живут и периодически спят, – сказал, воспользовавшись таким поводом, Вальт, – они наверняка и сны видят, как дети и животные. Все живые существа, собственно, должны видеть сны.
– И святые люди, и святые ангелы тоже? – спросила Вина.
– Я бы сказал, что да, – отозвался Вальт. – Поскольку все живые существа совершенствуются и, следовательно, могли бы грезить о чем-то высшем.
– И все-таки одно существо мы должны исключить, – сказала Вина.
– Конечно! Бог ведь не видит снов. Но теперь, когда я вновь думаю о цветах, мне кажется, что в их нежных чашечках в самом деле может цвести темный сон о каком-то более светлом сне. Их ароматные души на ночь прикрываются – и не просто листьями, а поистине органическим способом, как и у нас душа прикрывается не просто опустившимися веками. Если эти разноцветные существа днем способны чувствовать свет и прилив новых сил: то наверняка они и ночью могут наслаждаться сновидческими отражениями дня. Всевидящий там, наверху, видимо, знает сон розы и сон лилии, более того, устанавливает различие между ними. Роза могла бы видеть во сне пчел, лилия – бабочек (в эту минуту я почти уверен, что так оно и есть), незабудка – солнечный луч, тюльпан – одну пчелу, некоторые другие цветы – легкий ветерок… Ибо где положен предел царству Божию или царству духов? Богу, наверное, цветочная чашечка тоже представляется сердцем, и наоборот, некоторые сердца представляются Ему цветочными чашечками. -