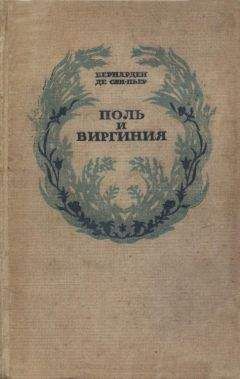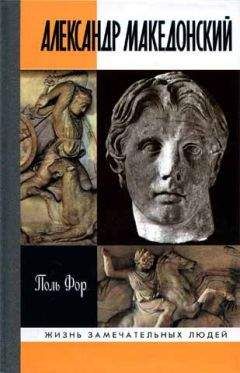Грубиянские годы: биография. Том I - Поль Жан
Он сел за накрытый к ужину маленький стол с гораздо большей светскостью и легкостью, чем казалось ему самому. Генерал, который жаждал непрерывных разговоров и развлечений, потребовал, чтобы Вальт рассказал что-нибудь – какую-нибудь забавную историю. Если бы нотариуса попросили рассказать что-то трогательное, он легче справился бы с задачей; а так он сказал: он, дескать, хотел бы сперва подумать. Однако ему ничего не приходило на ум. Нет ничего труднее, чем заставить импровизировать свою память. Острый и одновременно глубокий ум, то бишь фантазия, импровизирует с гораздо большей легкостью, чем память, – особенно когда на всех умственных холмах горят самые радостные костры. Как бы то ни было, тысячи три фатальных бонмо нотариус, видимо, уже раньше читал – поскольку узнавал их, услышав в пересказе других людей; однако сам он, первым, никогда ничего подобного вспомнить не мог – и после стыдился себя перед очередным содокладчиком. Хотя причин особенно стыдиться у него не было: потому что такие референдарии чужих шуток, такие почтовые корабли общества, как правило, обладают уплощенным мозгом, на гумне которого никогда не растут цветы, накапливаемые ими только в засушенном виде.
«Я все еще думаю», – испуганно сказал Вальт в ответ на обращенный к нему взгляд Заблоцкого и про себя взмолился, чтобы Господь напомнил ему хоть какие-то шутки: ведь он, помимо прочего, понимал, что, собственно, думает сейчас лишь о думании и о его значимости. Дочь протянула отцу бутылку, поскольку вино всегда распечатывал только он (а его письма – она). «Как вы полагаете, миллезим этого вина – 48 или 83?» – спросил Заблоцкий, когда Вальту налили бокал. Нотариус вложил в дегустацию всю душу, после чего поднял глаза к потолку, будто ища там ответ. «Вполне может быть, – наконец сказал он, – что это вино наполовину старше того, которое я пил в последний раз и скорее счел бы молодым, 48-летним; да (прибавил он уже более уверенно и взглянул в свой бокал), сейчас я наверняка пил великолепное вино 83-летней выдержки». Заблоцкий усмехнулся, потому что вместо того, чтобы просто услышать анекдот, пережил его вживе – и теперь сможет прекрасно пересказать другим.
Генерал, желая отвлечь гостя от беззвучной внутренней охоты за доброй шуткой, спросил: как, дескать, тот попал в Розенхоф? Вальт не сумел назвать никаких убедительных причин – хотя причина, в белой шляпке, сидела прямо напротив него, – за исключением обаяния природы и любви к путешествиям. Но поскольку ни то, ни другое не было связано с деловой активностью, Заблоцкий его не понял, а решил, что гость прячется за какой-то горой, и попытался его оттуда выманить. Тогда Вальт сбросил со своих поэтических крыльев – на скатерть – драгоценные горы, долины и деревья, потому что во все время блаженного путешествия больше нагружал эти крылья, нежели летал на них. Вальт долго и щедро раздаривал все эти картины, но в какой-то момент Заблоцкий прервал его, воскликнув: «Черт побери!
Возьми хоть что-нибудь, или я ничего не стану жрать!» Вина (ибо именно к ней обратил он эту любяще-гневную реплику, которую трудно представить в разговоре отца и дочери – скорее уж как обращение мужа к жене) испуганно взяла большой кусок вальдшнепа, любимчика отцовского нёба, и тут же – вежливее, чем это делал Заблоцкий, – протянула тарелку смутившемуся нотариусу, чтобы избежать пары сотен дальнейших недоразумений. Вальт же не понимал, как при таком изустном, но живом описании живой (и, можно сказать, обладающей говорящими устами) природы, какое представил он сам, какой-то жалкий вальдшнеп со всем его album graecum еще мог произвести некоторую сенсацию. Поэтические натуры наподобие Вальта, если они и встречаются в северных странах (а любой княжеский двор, или большой свет, это леденящий Север для духа, так же как географический Север – для тела), выглядят там, как слоновьи бивни в Сибири, непостижимым образом сброшенные в том месте, где сами слоны вымирают от холода.
Заблоцкий вкрадчивым голосом снова спросил нотариуса, не пришло ли тому что-то в голову; и Вина взглянула на него из-под вечерней зари – из-под подбитой красной тафтой шляпы – так мило (тут же снова потупив глаза), так просительно, что Вальт очень страдал бы, если бы ему наконец не вспомнились те три истории, какие он обычно припоминал; но он едва не забыл их опять, себе на беду, ибо по-детски умоляющие глаза Вины заняли слишком много места – а именно, всё целиком – в его фантазии, памяти и душе.
«Один тугоухий министр, – начал он, – слушал за княжеским столом…» – «Как его звали и где это было?» – спросил Заблоцкий. Этого Вальт не знал. Уже по одному тому, что нотариус не умел придать тем немногим историям, которые ему вспоминались, никакой почвы, дня рождения и свидетельства о рождении – поскольку выдумывать ни на чем не основанные байки ему никогда не нравилось: видно, каким бесцветным он был в качестве живописателя историй и в сколь большой мере, собственно, выступал в качестве легкомысленного историка-импровизатора. «Один тугоухий министр слушал за княжеским столом, как княгиня рассказывает смешной анекдот, и потом неописуемо смеялся над ним вместе со всем кружком слушателей, хотя на самом деле ни слова не понял. Потом он пообещал, что расскажет не менее смешную историю. И, ко всеобщему изумлению, пересказал только что рассказанный анекдот – как новый».
Генералу казалось, будто тут что-то не так; услышав, что история на этом заканчивается, он с запозданием воскликнул «Прелестно!», но громко рассмеялся лишь две минуты спустя: потому что ему понадобилось именно столько времени, чтобы тайно рассказать себе тот же анекдот еще раз, только с большими подробностями. Человек обычно не хочет, чтобы острая и яркая пуанта рассказываемой истории слишком быстро достигла смехового порога, то бишь диафрагмы. Неожиданная развязка анекдота веселит лишь в том случае, если прежде слушателя долго и нудно загоняли в него. Истории должны быть длинными, формулировки мнений – короткими. Вальт между тем вспомнил и начал излагать вторую анонимную историю: о некоем голландце, который очень хотел завести себе сельский домик, как все его соседи, ради великолепного вида на море, – да только денег у него не было. Однако этот человек так сильно любил красивые виды, что преодолел все трудности: он распорядился, чтобы на принадлежащем ему холме у берега моря построили короткую кирпичную стену и в ней сделали окно; теперь ему достаточно было подойти к окну, чтобы наслаждаться видом открытого моря – точно так же, как это делал, сидя в своем садовом домике, любой из его соседей.
Тут даже Вина сверкнула блистательной улыбкой из-под красной тафты, затенявшей ее лицо. Ободренный Вальт – с еще большим обаянием, чем прежде, – рассказал третий анекдот.
Один воскресный проповедник, чья гортань была лучше приспособлена для кафедральной прозы, нежели для алтарной поэзии, получил повышение и столкнулся с необходимостью пропеть перед алтарем «Слава Господу в высях!» Он взял сколько-то уроков пения; наконец, после двух певческих недель он льстиво сказал себе, что уж теперь этот стих – в его власти и в его глотке. Половина города собралась в церкви даже раньше обычного, чтобы услышать результат столь напряженных усилий. Проповедник очень мужественно вышел из сакристии (поскольку там еще раз тихо пропел всю песню перед учителем пения) и с полным самообладанием поднялся к алтарю. Все рассказчики этой истории сходятся в том, что он превосходно начал и вполне прилично влил свой голос в хор прихожан: но тут ему на погибель снаружи мимо церкви проскакал на коне дующий в рожок почтальон – и невольно вмешался вместе со своим рожком в церковное песнопение; рожок заставил проповедника свернуть с прежней певческой колеи на новую, и бедняга не удержался – прямо перед алтарем вдруг стал петь серьезную церковную песню на мотив проносящейся мимо забавнейшей пьески для горниста.
Генерал очень похвалил нотариуса и в радостном настроении вышел из комнаты; однако больше он не вернулся.