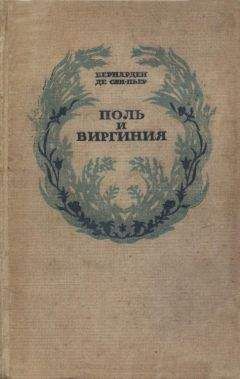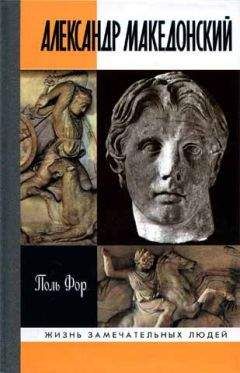Грубиянские годы: биография. Том I - Поль Жан
Якобину он больше не видел – только полоску света над ее порогом, когда переступал порог своей комнатенки. Войдя, Вальт долго раздумывал, не обидит ли он человечество своей подозрительностью, если на ночь запрется изнутри. Но потом ему вспомнилась Маска, и он задвинул засов. Во сне ему показалось, будто кто-то тихо позвал его по имени. «Кто там?» – крикнул он. Никто не откликнулся. Только яркое лунное пятно лежало на подушке. Сны его сделались путаными, и Якобина вновь и вновь спасала его, запуская обратно в розоцветное море – всякий раз, когда Маска, поддев Вальта на удочку, вышвыривал его на горячий от серы берег.
№ 46. Благородный гранат
Бодрящий день
Ранним утром компания актеров, словно солдаты, участвующие в военной кампании, шумно разобрала палатки и приготовилась покинуть лагерь. Возчики отряхивали с себя ночную солому. Кони ржали и били копытами. Свежесть жизни и утра оросила обжигающей утренней росой все поля будущего, и для странствия в сторону этих полей не было жаль никаких усилий. Шум и предотъездное нетерпение романтически оживляли сердце, и казалось, будто ты прямо сейчас въезжаешь из страны прозы в страну поэтов, будто успел приехать туда к семи часам, когда она еще позлащена солнцем. Пока напротив Вальта сидела чрезвычайно бледная Якобина – словно некий бесцветный дух, – нотариус мысленно заглядывал в сновидение и в ближайший вечер, где рассчитывал вновь встретить этого белого духа и спросить его о причине такой бледности; ему ведь легче было догадаться о наличии душевных румян, нежели о применении румян для щек, этого осеннего багрянца опадающих листьев, который приходит на смену весеннему румянцу девственных цветочных лепестков. Разглядеть же белила людям ученым еще труднее или не удается вообще, потому что, как они говорят, им непонятно, с какого места они начинаются.
Человек в маске сел на лошадь и поскакал в сторону Санкт-Люне. Готвальт знал: если он выберет путь на Иодиц, то вещий сон, согласно которому он должен там в полдень трапезничать, наполовину уже осуществится; он, стало быть, этой дорогой и пошел. Потому ли, что второй день путешествия всегда стирает с природы ослепительный блеск, или потому, что беспокойный взгляд Вальта, устремленный в сторону предсказанного Розенхофа и его даров, отпугивал робкую зелень природы, которая, как живописное полотно, открывается только бестревожным глазам: как бы то ни было, вместо вчерашнего созерцательного утра он получил теперь другое – исполненное стремлений и деятельное. Он редко присаживался; он летел, он стоял и шел как главнокомандующий во главе своих дней. Если бы ему встретился пасущийся на лугу Росинант Дон Кихота, он бы, недолго думая, вскочил на голую лошадиную спину (использовав в качестве седла собственное седалище) и поскакал в романтический мир, до самых дверей новой Дульсинеи Тобосской. По дороге он увидел работающую масляную мельницу и зашел туда; гигантские машины показались ему живыми: хоботы, наносящие рубящие удары, и колоды, непрерывно что-то толкущие, наверняка приводились в движение, поднимались какими-то диковинными силами и духами.
В безоблачно-синем небе непрерывно шумел ветер – который был своей собственной ветряной арфой; однако ничто не способно проникнуть дальше в страны волшебства и будущего, чем такое вот веяние незримой звучащей силы. Духи летели в этом ветре; леса и горы всей земли сотрясались и передвигались по произволу Вышних; внешний мир, казалось, вдруг сделался таким же подвижным, каким всегда является мир внутренний.
Повсюду виднелись рыцарские замки на скалах – увеселительные дворцы среди садов – белые домики на засаженных виноградом невысоких горах; реже – то вспыхивающая красным кирпичная хижина, то шиферная крыша зерновой или бумажной мельницы. – Под всеми этими крышами могли обитать – и выходить из-под них, и приближаться к нотариусу – самые редкостные отцы, и дочери, и приключения; но он об этом думал без страха.
Когда другая дорога пересекла ту, по которой он шел, образовав перекресток (андреевский крест колдуний): на него зловеще повеяло глубокими преданиями из детства; он стоял в средоточии четырех сторон света и на этом веющем месте мог охватить взглядом всё, что происходит – даже в отдаленнейших уголках земли, – всю сумятицу жизни. Тут он увидел Иодиц, где согласно сну Вульта должен был пообедать. Однако ему показалось, что он уже видел такое, давно: реку вокруг деревни, пересекающий ту же деревню ручей, круто поднимающуюся от самого берега реки лесистую гору, окантовку из берез, – и всё это представлялось ему родиной издавна знакомых картин. Может, когда-то бог сновидений построил перед ним похожую деревушку из воздуха, на территории его сна, – и сделал так, чтобы она витала у него внутри [34]. Но сам Вальт думал не об этом, а о приключениях и о природе, которая охотно играет с подобиями (среди камней и в облаках) и с близнецами.
В йодицком трактире нотариус опять удивился – отсутствию чего бы то ни было удивительного. Дома была одна лишь хозяйка, а он оказался первым гостем. Только позднее обстановка несколько оживилась: появился богемец с четырьмя предназначенными к продаже свинками и собакой; но поскольку этот человек непрерывно жаловался, что предпочел бы пригнать и сбыть сразу четыре стада, а не всякий раз продавать последних животных из приплода, которому не видно конца, Вальт решил не позволять больше, чтобы его солнечную сторону обращали в сторону зимы, а потребовал себе портативную трапезу и отправился дальше.
Он очутился в тихом горном лесу и, соскользнув с дороги, шел по все более сужающемуся ущелью, пока не оказался в так называемом тихом месте, которое описал в своем дневнике следующим образом:
«Скалы стремятся навстречу друг другу и словно соприкасаются вершинами, а деревья на них в самом деле протягивают друг другу руки. Здесь нет никаких иных красок, кроме зелени, и вверху – некоторой синевы. Птицы поют, и сидят в своих гнездах, и прыгают, на земле их никто не тревожит, кроме меня. Здесь – прохлада и источники, сюда не проникает ни малейшее дуновение. Здесь – вечное темное утро: всякий лесной цветок влажен, и утренняя роса доживает до вечерней росы. Так потаенно встроен, так надежно обрамлен этот зеленый натюрморт, не имеющий иной связи с сотворенным миром, кроме немногих солнечных лучей, которые в полдень привязывают сие тихое место ко всемогущему небу! Странно, что именно глубокая впадина так же уединенна, как вершина. Соссюр на Монблане не нашел ничего, кроме одной дневной и одной ночной бабочки, что меня очень обрадовало… В конце концов я сам сделался таким же тихим, как это место, и уснул. Волшебные сны, один за другим, давали мне крылья, которые вскоре превращались в большие цветочные лепестки, на них я лежал и покачивался. В конце мне показалось, будто меня окликает по имени флейта и будто брат стоит рядом с моим ложем. Я открыл глаза, но почти наверняка все еще слышал флейту. Однако я совсем не понимал, где нахожусь; я видел вершину дерева, подсвеченную пунцово-красным; я наконец с трудом вспомнил, как уходил из Иодица, и испугался, что проспал здесь всю ночь и обещанный вещим сном вечер в Розенхофе, – поскольку принял этот пунцовый свет за утреннюю зарю. Я выбрался из росистого леса на прежнюю дорогу – роскошная страна утра раскинула передо мной огнистые крылья, рывком переместив мое сердце в наисветлейшее царство. Обширные еловые леса были окаймлены по верхушкам желто-красным – правда, лишь из-за губительных гусениц елового шелкопряда. Милое солнце стояло так, что – в это время года – я мог бы подумать, будто сейчас без четверти шесть утра (однако, говоря по правде, было четверть седьмого вечера). Между тем я видел, что Линденштедтские горы залиты красным светом стоящего напротив них солнца – которое, собственно, если учесть их восточное положение, должно было располагаться над ними.
Я оставался в растерянности – хотя солнце скорее опускалось, чем поднималось, – пока со мной не поравнялся молодой сухощавый художник с резко выступающими красивыми скулами и длинными, широко шагающими ногами, в одной из самых больших прусских шляп, какие мне доводилось видеть, и с сумкой живописца в руке. “Доброе утро, друг! – обратился я к нему. – Ведет ли эта дорога в Розенхоф и как далеко до него?” – “Город вон там, прямо за холмами, вы доберетесь туда за четверть часа, еще до захода солнца, если застанете паром у берега”. Художник двинулся прочь – широко шагая, как уже говорилось, – и я сказал ему вслед: “Спасибо, доброй вам ночи”. Но у меня было странное ощущение: как если бы мир вдруг начал вертеться в обратную сторону или как если бы гигантская тень надвинулась на солнце, этот огонь жизни, – ведь мне пришлось внезапно переделать утро в вечер». Так вот он написал об этом.