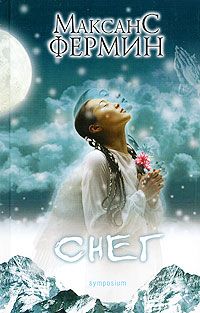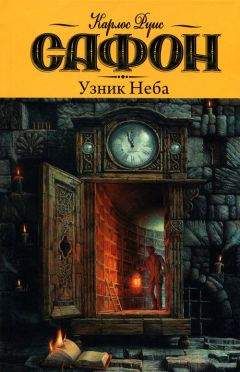Малькольм Лаури - У подножия вулкана
«На север он бежал», — мысленно повторила она. А Хью сказал:
— Vаmonos.
Ивонна согласилась уйти.
Снаружи дул пронзительный ветер. Где-то беспрестанно хлопала незакрытая ставня, ярко светилась электрическая надпись над гаражом.
Еще выше часы — «Служба точного времени»! — показывали без двенадцати семь. «На север он бежал!» Веранда ресторана опустела...
Когда они вышли за дверь, сверкнула молния и тотчас ударил гром, долгий, раскатистый. На севере и на востоке густые черные тучи поглотили звезды: Пегас незримо скакал по небу; но над головой небо еще оставалось ясным: вон Вега, Денеб, Альтаир; а на западе, за деревьями, Геркулес.
— «На север он бежал...» — повторила Ивонна.
Впереди, у дороги, возникли смутные очертания разрушенного греческого храма, две высокие, стройные колонны над двумя широкими ступенями; но через мгновение храм этот с его изумительными колоннами, с дивным совершенством пропорций исчез, и теперь на месте широких великолепных ступеней простерлись, пересекая дорогу, две полосы света, струившегося из гаража, а колонны превратились в два телеграфных столба.
Они опять свернули на тропу. Хью включил фонарик, призрачное световое пятно задрожало, расплылось, мерцающей пеленой обволокло гигантский кактус. Тропа сузилась, и Хью шел позади, а овальное пятно света скользило перед ними, прыгало из стороны в сторону, перекрываемое мятущейся, уродливой тенью Ивонны, которая была огромна, как тень великанши... Причудливые, похожие на канделябры кактусы казались сизыми в свете фонарика; прочные, упругие, они не гнулись под ветром, а лишь медленно раскачивались все разом, и чешуйчатые, колючие их стебли зловеще потрескивали.
«На север он бежал...»
Ивонна теперь чувствовала, что не пьяна нисколько; гигантский раскидистый кактус исчез, тропа, все такая же узкая, петляла меж высоких деревьев и кустарника, но идти по ней было легко.
«На север он бежал...» А они шли не на север, они шли в «Маяк». И консул бежал не на север, он тогда, как и сегодня вечером, ушел, по всей вероятности, в «Маяк». «Немногих смерть его могла бы устыдить». Над ними грозно шумели ветви, словно там, в вышине, текла бурная река. «Смерть его...»
Ивонна не была пьяна. Пьяны были кусты, которые внезапно, стремительно выскакивали на тропу, преграждали путь; пьяны были качающиеся деревья; и тем более пьян был Хью, он нарочно завел ее сюда, это ясно, желая доказать ей, что гораздо лучше, разумнее ходить по проезжей дороге, а не блуждать в этом жутком, полном опасностей лесу, где над самой головой вспыхивают электрические разряды; и вдруг Ивонна осознала, что она стоит на месте, остановилась как вкопанная, до боли стиснув руки, и говорит:
— Надо спешить, ведь уже около семи. — И она спешила, почти бежала по тропе, говоря громко, взволнованно: — Я ведь тебе рассказывала, как год назад, перед моим отъездом, мы с Джеффри условились встретиться и пообедать вдвоем в Мехико, но он позабыл, где именно, и ходил, оказывается, по ресторанам, искал меня, а теперь вот мы ищем его.
Хью запел по-испански громко, беспечно. — ...и такая же точно история вышла в Гранаде, когда мы с ним познакомились. Мы решили пообедать где-то около Альгамбры, а я подумала, что он предложил встретиться в самой Альгамбре, и не могла его найти, и опять я его ищу — в первый же вечер, едва вернулась к нему.
Над лесом прогремел гром, и Ивонна на миг снова остановилась как вкопанная, потому что ей вдруг померещилась впереди, на тропе, женщина с застывшей улыбкой на лице, которая манила к себе и протягивала лотерейные билеты.
— Далеко еще идти? — спросил Хью.
— По-моему, мы уже рядом. Каких-нибудь два поворота, а там надо будет перебраться по сваленному дереву.
— Что ж, ты оказалась права, — заметил Хью.
Наступило затишье, Ивонна взглянула вверх, на темные кроны деревьев, которые медленно раскачивались под ветром на фоне грозового неба, и у нее возникло ощущение, словно близится прилив, но вместе с тем что-то напоминало ей об утренней прогулке с Хью, вокруг витали вечерние отзвуки их утренних мыслей и звучал, подобно страстному зову моря, голос нежности, любви и скорби.
Где-то впереди раздался револьверный выстрел, похожий на резкий выхлоп автомобиля, расколол зыбкую тишину, потом грянул второй, третий.
— Опять учебные стрельбы, — сказал Хью со смехом.
Но эти земные звуки в сравнении с неистовым громовым ударом, который мгновенно за ними последовал, вызвали чувство облегчения, ведь они означали, что Париан уже близко и вскоре сквозь деревья забрезжат неяркие огоньки; вспыхнула молния, стало светло как днем, и в глаза бросилась унылая, никчемная стрелка, которая указывала назад, в сторону сгоревшего Аночтитлана; потом темнота стала еще гуще, а Хью осветил фонариком на стволе слева от тропы деревянный указатель — рука с вытянутым пальцем подтверждала, что они идут правильно:
A PARIANХью шел сзади и пел... Уже накрапывал дождь, из леса повеяло чистой, чудесной свежестью. Вот тропа описала причудливую петлю, и тут же Ивонна натолкнулась на толстый обомшелый ствол, лежавший поперек пути, и здесь, рядом, была вторая тропа, та самая, по которой она не пошла вначале, а консул мог пойти прямо от Томалина. Подгнившая лесенка с редкими перекладинами, приделанная к концу ствола, оказалась на месте, Ивонна поднялась по ней и только тогда обнаружила, что потеряла из виду свет фонарика, который нес Хью. С трудом удерживая равновесие во тьме, на скользком стволе, она снова увидела фонарик чуть поодаль, слабый огонек, блуждающий среди деревьев. Она сказала громко, с затаенным торжеством в голосе:
— Осторожней, Хью, не сходи с тропы, она тут петляет. И помни про упавшее дерево. У этого конца есть лесенка, а дальше придется спрыгнуть.
— Ну и прыгай, — отозвался Хью. — А с тропы я все равно уже сошел.
Хью ударил по деке гитары, Ивонна услышала протяжный, жалобный звон и крикнула:
— Сюда иди, ко мне!
Хью весело распевал...
И вдруг хлынул проливной дождь. Ветер промчался по лесу, словно поезд на всех парах; впереди, за деревьями, блеснула молния, и яростный, оглушительный громовой удар сотряс землю...
Когда гремит гром, человек порою не испытывает тревоги, за него словно тревожится внутри кто-то другой, убирает, как в доме, мебель с открытой веранды, наглухо затворяет окна и ставни в душе, страшась не столько опасности, сколько кощунственного возмущения небесного покоя, ужасающего безумия в горних сферах, некой скверны, от которой смертный должен отвратить взор: но всегда остается открытой дверь души — подобна тому, как некогда в грозу люди оставляли открытыми двери своих домов, чтобы Иисус мог войти, — и душа готова встретить, восприять немыслимое, будь то громовой удар, который может поразить кого угодно, но только не тебя самого, молния, которая непременно подожжет чужое жилище, или несчастье, так редко приходящее, когда его скорей всего можно ждать, и сквозь эту дверь в душе Ивонна, стоя на скользком бревне, вдруг словно узрела неведомую угрозу. Сквозь замирающие отголоски грома доносился, нарастая, громкий шум, но это не был шум дождя. Какой-то зверь, испуганный грозой, стремительно близился — вероятно, олень или конь, во всяком случае, стук копыт слышался явственно, — мчался во весь дух, скакал напролом через кустарник; снова вспыхнула молния, грянул гром, и она услышала протяжное ржание, почти человеческий вопль, исполненный ужаса. Ивонна почувствовала дрожь в коленях. Она окликнула Хью, сделала попытку повернуть назад, спуститься по лесенке, но бревно уходило из-под ног; она поскользнулась, теряя равновесие, поскользнулась опять, и ее резко качнуло вперед. Когда она упала, одна нога у нее подломилась, нестерпимая боль обожгла ступню. Ивонна попыталась встать и увидела при ослепительном свете молнии коня без седока. Конь скакал не к ней, чуть поодаль, но она разглядела его явственно, подробно, вплоть до седла, съехавшего на бок, вплоть до клейма с семеркой на крестце. Она силилась встать и услышала свой отчаянный крик, когда конь, резко свернув, ринулся прямо на нее. Небо озарилось белым пламенем, деревья и обезумевший, вздыбленный конь слились воедино...
Это ярмарочная карусель вращается вокруг нее, детские автомобильчики мчат друг за другом; или нет, это планеты несутся вокруг пылающего, раскаленного, неподвижного солнца; вот они опять, Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон; только это вовсе не планеты и не карусель, это чертово колесо, унизанное созвездиями, в центре сверкает, словно огромный холодный глаз, Полярная звезда, а созвездия кружатся, кружатся непрестанно: Кассиопея, Цефей, Рысь, Большая Медведица, Малая Медведица, Дракон; но нет, это и не созвездия, как ни странно, это мириады изумительно красивых бабочек, пароход подходит к гавани Акапулько в целом урагане красивых бабочек, они порхают над головой и исчезают за кормою вдали, над морем, а море чистое и бурное, утренние валы непрестанно набегают, рушатся и отползают, пластаясь прозрачными овалами по песчаной отмели, рушатся, рушатся, и кто-то вдали зовет ее по имени, и тут она вспомнила, что они с Хью в темном лесу, услышала шум ветра и дождя в лесной чаще, увидела, что в небе полыхает молния и над самой головой конь, — великий боже, опять конь, неужели это видение будет преследовать ее вечно, неотступно? — конь, вздыбленный, окаменевший в воздухе, чудовищное изваяние, и кто-то сидит на нем, это Ивонна Гриффатон, или нет, это конная статуя Уэрты, это консул, или это деревянная лошадка на карусели, веселый аттракцион, только карусель не движется больше, а она, Ивонна, уже на дне глубокого ущелья, и прямо на нее лавиной мчится миллион коней, и надо бежать через лес, под спасительный его покров, к их домику, милому, уютному домику у моря. Но домик объят пожаром, она видит это из леса, с высоты, слышит треск, да, там пожар, горит все, горит ее мечта, горит дом, и они с Джеффри стоят внутри, в доме, взявшись за руки, и все в порядке, все на месте, дом цел, такой привычный, знакомый, милый сердцу, только крыша горит, и еще этот шум, этот непрестанный треск и шуршание, словно вихрь сухих листьев несется по кровле, но вот пожар разгорается у них на глазах, все в огне: посудный шкаф, кастрюли, старый чайник, новый чайник, деревянная статуя над глубоким, студеным колодцем, лопаты, грабли, крытый дранкой навес, куда ветер так часто заносил облетающие лепестки кизила, но больше этому не бывать, потому что кизиловый куст тоже горит, пожар распространяется все быстрей и быстрей, стены, по которым скользят солнечные блики, цветы в саду горят, чернеют, корчатся, извиваются, падают, горит сад, горит веранда, где они с Джеффри любили сидеть по утрам, весенней порой, и красная дверь, и широкие окна, и занавески, которые она сделала сама, — все горит, старое кресло Джеффри, его письменный стол, его книга, ах, его книга тоже горит, рукописные листы горят, горят, горят, взмывают в воздух, разлетаются по берегу, дотлевают, и уже темнеет, подходит прилив, волны прилива затопляют пепелище, и прогулочные суда, которые рассекали залив с певучим плеском, теперь безмолвно уплывают вдаль по черным водам Эридана. Их домик гибнет, и лишь смертные муки властвуют там безраздельно.