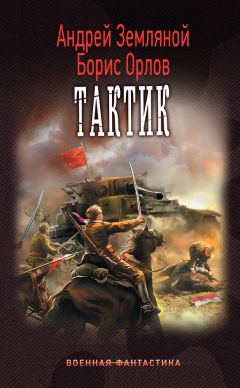Борис Кундрюцков - Казак Иван Ильич Гаморкин. Бесхитростные заметки о нем, кума его, Кондрата Евграфовича Кудрявова
— Смотрите-ка, Петровна огонь задула. Тю-у.
Он постучал в окно.
— Кто там?
Услышали мы голос Петровны.
— Ето мы с кумом.
— Полуношники окаянные.
Гаморкин развеселился и пошутил.
— Мы с ним в Рай утром отправляемся.
— Куда?
— В Рай.
Наступила тишина, потом Петровна сердито спросила:
— А што-ж вы в сумашедший дом не поедете што-ль?
Наш смех разбудил улицу.
— Открой, — сказал Гаморкин, — мы к тебе. С нами Прасковья Васильевна.
Почти тотчас же засветился в курене приветливый огонек.
Мы повечеряли у Гаморкиных, поговорили о том, о сем, и под конец, каждый умостившись поудобней, стали слушать сказку, которую Иван Ильич стал рассказывать приставшей к нему шестилетней дочке своей — Нюньке. Начал он рассказывать плавно без запинки и как вот до самого конца, я даже подивился — что за умение такое, прямо, талант.
И в некотором Царстве, в некотором Степном Государстве, жили да были два брата-казака"…
— Ну да уж ежели проговорился, так было ето на Дону.
„Одному было имя — Игнат, а другому — Тараска. И были они казаки не бедные, и не богатые. Игнат на охоту ходил, а Тараска рыбу ловил и в курене по хозяйству занимался. Жили они в маленьком городке, а городок етот лежал на самом берегу Дона. С одной стороны река синяя, стало быть, текеть, а с других трех сторон — валы высокие понасыпаны из земли, а на валах ешо тыны поставлены. Отгораживались казаки от всех злых людей, што в те старые годы по степи бродили. Городок был маленький — жило в ем человек сто казаков и шестьдесят казачек, двадцать девочек и семьдесят мальчиков. Были казачьи жены из разных стран — татарки, калмычки, черкешенки, персиянки, русские, украинки, польки и другие.
У казаков же был старший над всеми — Атаман.
Был этот атаман от земли аршин, голова у него была, как котел большая, а нос — красный, картошкой, и усы висели до пояса.
Люлька у него была глиняная и табак он курил особенный какой-то — вонючий, вонючий.
Когда закурит, то усе чихают и разбегаются.
Через этот табак и стал он атаманом Казачьего Городка.
Было ето дело так. Собрались казаки себе атамана выбирать, одни говорят:
— Пусть Гордей будет нами управлять и нашим атаманом станет.
Другие говорят:
— Не хотим Гордея, у него ума нет. Да и не будет он нас слушать. Выберем лучше Тимофея.
А когда казаки себе атамана выберут, то ведут его на почетное место, поют винами сладкими, обряжают в одежды парчевые и шашку ему цепляют на бок — вся то она в серебре, да в золоте, и самоцветных камешках, а на ручке цепочка, на цепочке три колечка:
Одно — што-б Дон любил,
Другое — што-б казаков непослушных
бил,
Третье— што-б Волюшку Казачью хранил.
Как опояшут ему шашечку, так оденут папаху. Высокую такую, с красным верхом. А верх, к тому же, серебрянным позументом расшит, стальной проволкой прошит, и на голове дыбом стоит.
В руки ему дадут булаву атаманскую, казачью. Горит и она разными роскошествами и богатствами, и жемчугом катанным, и рубинами алыми, и брилиантами самоцветными — в изумрудах, да во алмазах уся.
Так вот, значит, и спорило девяносто девять казаков промеж себя, а сотый — казак Никодим (я вспомнил почему-то батюшку, который венчал Ивана Ильича), взял булаву самолично, закурил свою трубочку, и спрашивает:
— Кого хотите атаманы-молодцы?
Расчихались все, расплевались от табачища поганого — руками машут, слова выговорить не могут.
— Што-ж, — говорит Никодим, — кого хотите?
А сам трубкой: пуф-пыф, пуф-пыф.
— Горде… П-чхи… П-чхи — сказал один и убежал скорей.
— Тимох… Ап-чхи… — крикнул другой, присел на корточки, уткнулся носом в землю, што-б дышать было чем, и тоже замолчал.
А остальные совсем от дыма угорели дыхание у них сперло.
— Аап-чхи-и, п-по-потуши, просят, трубку — все нутро съела проклятая".
Нюнька хохотала как сумасшедшая, да признаюсь, и я смеялся глядя, как Иван Ильич чихал и изображал всех в лицах. Смеялись и женщины.
— Кого хотите? — спрашивает Никодим, а сам— пуф-пыф, пуф-пыф. Поворачивается на все стороны, дымит на весь городок.
Ох, — молют казаки, — тебя-а. Апп-чхи!! Тебя — Никодимуш а, пусти только душеньки на покаяние. Только не дыми, отец родной.
Одел Никодим на себя папаху Атаманскую и шашку драгоценную и пошел в Ста-нишное Правление. А трубку о каблук выбил п за пояс заткнул…
Так-то вот, и стал он Атаманом.
И вот под этим-то атаманом и жили Игнат да Тараска. Были они одни — одинешеньки, нежанатые — холостые, и был Игнат светлый в волосах, а Тараска чернявый и загорелый.
Лето в тот год было жаркое-прежаркое и казаки больше в куренях сидели, даже в
Главное Войско не ездили, где Войсковой правил.
Проедишь по степи две версты, конь язык высунет, как пес, и дальше идти не может.
Известное дело, спрашивается — куда в такую жару пойдешь?
Дон омелел и рыба горой пошла, звери и те в норы позабивались, по балкам и колдобинам попрятались.
И загрустил Игнат с Тарасом. Стало им от той великой жары скучно — пришли к атаману…
— Отпусти ты нас, Атаман, погулять по белу свету — тошно нам в станице.
— Да куды-ж вы в такую жару пойдете?
А туды… — махнул Игнат на Восток рукой.
— Ну, што-ж идите, да к осени ворочайтесь — в поход пойдем; басурманов бить, на зиму зипунов доставать. Должон я Войсковому всех казаков с собой привести. Не вернетесь ко времени, пымаю — чубы выдеру.
Говорит, а сам трубкой — пуф-пыф.
Чихнули от табачища Игнат и Тараска, сказали: прийдем, бывайте здоровеньки… да и пошли снаряжаться в путь-дороженьку.
А как убрались, сели на коней и стали выезжать, нагнулся Тараска до земли и сорвал на ходу два зеленых лопуха. Стал тут смеяться над ним Игнат:
— Я шашку привязал, а ты лопух взял, я пику свою в руку, а ты — зеленую траву.
А Тараска говорит:
— И мое оружие не плохое.
Пошли они по шляху. Идут шажком, промеж себя разговоры ведут. Проехали с версту — качнулся под Игнатом конь… А был у него конь рыжей масти, тавро у коня — кружочек — Агима-Джана конь, отбил его Игнат у нагая в лихой схватке.
— Што спотыкаешься? — прикрикнул на него Игнат и нагайкой коня хлестнул.
А Тарас увидал, што и его конь слабеет, покрыл ему голову лопухом и себе другой лопух на папаху прицепил. Едет себе, посвистывает, сусликов подразнивает. А те в норки попрятались, одни хвостики на солнышко повыставляли. Хвосты-то у них холодные и летом и зимой.
Тут Нюнька перебила отца:
— Отчего у них хвостики холодные?
Иван Ильич усмехнулся, погладил ее по
голове. Потом продолжал.
Игнат смеется— разливается.
— Ишь, нарядился как братец.
Едут дальше. Под Игнатом конь вспотел и дрожит, а Тараскин идет, хвостом машет, из под лопуха в степь посматривает. Даже ржет на тонкий голос.
Проехали ешшо версту.
Игнатов конь вздохнул, на дыбки взвился, и на бок свалился. Вывернулся из-под него Игнат. Что же делать?
Остановился Тараска, говорит брату:
— Иди-ка ты домой, стереги курень, на одном коне двум не уехать.
Снял Игнат седло и пошел домой, а Тарас поехал дальше. Едет себе и едет. Мало ли ехал, много ли, долго-ль или коротко, а только стал он клевать носом. Клевал, клевал, да и заснул.
А в Главном Войске шли в те поры великие споры и раздоры.
Вечно спорили казаки, кому у них быть атаманом. Станет Степан — пойдут в поход и погиб Степан — выбирай другого.
Станет Иван — срежет его головушку татарин кривой шашечкой и — нет его — выбирай другого. Так вот они и выбирают все время. А Атаманы — молодец к молодцу. Войско-то Донское людьми богато.
Богатырей — счету нет.
Атаманы всегда вперед, орудуют перначами, крошат на кусочки врагов. Подбавляют казачьей славушки. А славушка-то словно жана: хорошая — дома сидит, дурная — по свету шалается.
Разбрасывают Атаманы свои косточки по степи — этим ли добром скупиться казакам Донским? Стоял бы крепко Казачий Присуд.
Так и выбирают себе все время Атаманов. Выбирут, а он уже и в сыру-землю на покой просится — либо в бою пикой его в сердце, либо стрелой. Так-то вот, выбирают, выбирают, да и разругаются. Иной раз до таких раздоров дойдут — шашки вынимают. Обнажили клинки и теперь, закричали свирепыми голосами:
— Или друг друга побьем и главный городок Раздоры снесем, или Бог нам в нашей смуте великой рассудит и поможет.
И… глядь — идет старичек из-за кургана. Старенький такой, старенький, сморщенный как печеное яблоко, хилится из стороны в сторону.
Идет и таранку грызет; отгрызет кусочек и из баклажки водицей запьет: запьет, усмехнется чему-то ласково и хлебцем закусит.
Кинулись к нему казаки, обрадовались новому человеку.
— Вот, говорят, рассуди нас, странник степной. Нет у нас в Атаманы человека подходящего. А должон он быть: