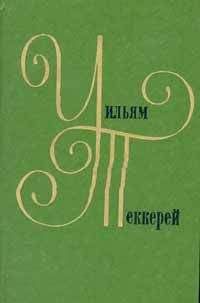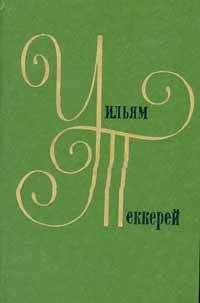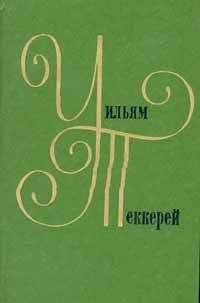Уильям Теккерей - Ньюкомы, жизнеописание одной весьма почтенной семьи, составленное Артуром Пенденнисом, эсквайром (книга 1)
В доказательство того, что он всерьез считает искусство своей профессией и даже намерен зарабатывать им на жизнь, Клайв отнес продавцу эстампов на Хэймаркет четыре рисунка на спортивные темы и продал их по семь шиллингов шесть пенсов за штуку. Когда он получил от мистера Джонса полтора соверена, восторгу его не было границ.
— За одно утро я шутя могу сделать полдюжины таких картинок, — прикидывал он. — Итого, по две гинеи в день, это выходит двенадцать, ну, скажем, десять гиней в неделю, — ведь в воскресенье я не буду работать, да и на неделе вдруг захочется передохнуть. А десять гиней в неделю — это пятьсот фунтов в год, то есть почти столько, сколько мне нужно. Мне даже не придется трогать денег моего милого старика.
Он написал своему доброму батюшке пылкое послание, полное счастливых и нежных слов, которое тот получит через месяц после прибытия в Индию и будет читать своим друзьям в Калькутте и Барракпуре. А Клайв созвал друзей-художников и устроил пирушку в честь этих тридцати шиллингов, избрав для сей цели трактир "Королевский Герб" в Кенсингтоне, столь чтимый многими поколениями живописцев. Тут был Гэндиш и гэндишиты и лучшие представители натурного класса с Клипстоун-стрит, а вице-председателем был Джей Джей, возле которого восседал Фред Бейхем, в чью обязанность входило произносить речи и резать баранину. И уж поверьте мне, столько здесь было спето веселых песен и осушено заздравных кубков, что, верно, в целом Лондоне не сыскалось бы в те дни такой веселой компании. Высший свет разъехался; Парк, когда мы шли через него, был пуст, и листья Кенсингтонского сада падали от усталости после столичного сезона. А мы всю дорогу, пока шли по Найтс-бриджу и вдоль ограды Парка, горланили песни, и возчики, ехавшие на Ковент-Гарденский рынок и остановившиеся передохнуть в трактире "На Полдороге", с удивлением внимали нашему хору. Теперь уже нет этого трактира, и веселые полуночники не оглашают больше округу своим пением.
Затем Клайв и Джей Джей сели на пароход и поплыли в Антверпен. Любителям живописи легко представить себе, какое наслаждение испытали наши друзья, попав в живописнейший из всех городов мира, где они сразу очутились в шестнадцатом веке; где гостиница, давшая им кров (старый мой знакомец — "Великий Пахарь", больше мне не вкусить твоего гостеприимства и уюта — тебя сровняли с землей!), так походила на придорожную таверну, в стенах которой Квентин Дорвард впервые повстречал свою возлюбленную; где из окон домов под островерхими крышами и с диковинных крылечек словно бы глядят рыцари Веласкеса и бургомистры Рубенса; где стоит все та же Биржа, что и триста лет назад, и для полноты картины остается лишь облачить толпящихся здесь людей в короткие панталоны и широкие фрезы и примыслить им бороды и шпаги; где по утрам просыпаешься под перезвон колоколов с восхитительным ощущением жизни и счастья; где по улицам бродят настоящие монахини, а каждая фигура на площади Мэр, каждая прихожанка в черной одежде, преклонившая колени в церкви или входящая в исповедальню (в настоящую исповедальню!), так и просится в новенький альбом. Если бы Клайв везде рисовал столько же, сколько в Антверпене, господа Соуп и Айзик составили бы себе недурной капиталец, снабжая его необходимыми принадлежностями.
После Антверпена адресат Клайва получил письмо, помеченное: "Hotel de Sede [92], Брюссель" и содержащее пространный панегирик удобству и кухне этого заведения, где вино, по словам пишущего, не знает себе равных в Европе. Затем следовало описание Ватерлоо, к коему прилагался набросок замка Угумон, где Джей Джей был изображен в виде бегущего французского гренадера, а Клайв преследовал его в мундире лейб-гвардейца верхом на огромном скакуне.
Следующее письмо — из Бонна; в нем имеются довольно посредственные стихи о горе Драхенфельз, рассказ о нашем бывшем товарище по школе Серых Монахов Край-тоне, теперь студенте университета, о так называемой "коммерц" — веселой попойке и о студенческой дуэли в Бонне. "Кого бы ты думал, я здесь встретил? — пишет далее Клайв. — Тетушку Анну, Этель, мисс Куигли и малышей, — весь полк под командованием Куна! Дядюшка Брайен остался в Ахенс, где оправляется от приступа. А моя прелестная кузина, ей-богу, хорошеет с каждым днем".
"Когда они вне Лондона, — пишет он далее, — а вернее сказать, когда за ними не приглядывает Барнс или старая леди Кью, они кажутся мне совсем иными людьми. Тебе известно, как холодны они были с нами последнее время и как огорчали тем моего славного старика. А тут, как повстречались со мной — милее некуда. Произошло это на горе близ Годсберга. Мы с Джей Джеем поднимались к развалинам замка, а за нами тянулась толпа нищих, которые подстерегают вас здесь вместо прежних разбойников. Вдруг, видим, — спускается сверху караван осликов, и детский голосок кричит: "Смотрите, Клайв! Ура, наш Клайв!" Один ослик, стуча копытами, устремляется к нам но склону; на спине у него торчат растопыренные ноги в белых штанишках, и я узнаю крошку Элфреда, который сияет — рот до ушей.
Потом он стал поворачивать своего скакуна — хотел, видно, поехать назад, чтобы уведомить остальных, но ослик как заупрямится, как начнет брыкаться — и скинул мальчишку наземь. Пока мы отряхивали его, подъехало остальное семейство. Мисс Куигли выглядела зловеще на стареньком белом пони; тетушка восседала на вороной лошади которая от старости сделалась сивой; затем шли два осла, груженные детьми, под присмотром Куна, а, наконец, ехала Этель, тоже верхом на осле; на ней была темная юбка и белая муслиновая блуза, перетянутая в талии малиновой лентой; на голове большущая соломенная шляпа, украшенная лентой того же цвета, а в руках букет полевых цветов; ноги ее были скрыты под шалью, прилаженной заботливым Куном. Когда она остановилась и ослик принялся ощипывать кусты, на лицо ее и белую кофточку упала ажурная тень листвы. Лоб, глаза и волосы оставались в тени, зато на правой щеке играл луч света; он сбегал по плечу и руке, тоже белой, но более теплого тона, и зажигался огнем на алых маках и еще каких-то синих и желтых цветах в ее букете. "Даже птицы, кажется, запели громче с ее появлением", — сказал Джей Джей, и оба мы решили, что Этель — первая красавица Англии. Фигура ее, как она ни хороша, пожалуй, пока еще слишком гонка и несколько угловата, но краски бесподобны. Без красок нет для меня ни женщины, ни картины. О, эти нежные оттенки кожи! О! Lilia mixta rosis! [93] О, чернота волос и строгих бровей! По-моему, розы и гвоздики на ее щеках расцвели ярче с тех пор, как мы любовались ими в жарких бальных залах Лондона, где они вяли, задыхаясь в ночной духоте и свечной гари.
И вот я стою посреди целой толпы родственников, сидящих на целом стаде ослов; на заднем плане скромно дожидается Джей Джей, а завершают композицию нищие, с которыми Кун расправляется языком и руками, бранью и хлыстом. Представь себе еще Рейн, который серебрится в отдалении между Семью Горами, но помни, что главной в картине все-таки будет Этель; она непременно окажется главной, если верно нарисовать ее, и прочие огни померкнут в ее сиянии. Можно воспроизвести ее линии, но как передать ее краски? Тут мы не властны над природой. Можно овладеть линией, заставить ее лечь на место, но как изобразить "воздух"?! Я не знаю такой желтой краски, чтоб передавала солнечный свет, такой синевы, которая хоть сколько-нибудь походила бы на синеву неба. Мне думается, мы получаем на картинах только подобие тонов, какие-то намеки на них. Взять хотя бы сурик, посредством которого мы вынуждены изображать румянец, — разве скажешь, что он хоть сколько-нибудь походит на то сияние, которое разливается и трепещет на щеке, подобно солнечным лучам, играющим на лужайке? Вглядись, и ты увидишь, какое тут разнообразие нежнейших переливов, — ведь каждый оттенок это целое соцветие. Бросим же палитру и будем добиваться чистой линии: она осязаема и уловима — прочее нам недоступно и неподвластно".
Все эти рассуждения я привожу здесь не по причине их ценности (в последующих письмах ко мне Клайв то оспаривал их, то подтверждал), а потому что в них раскрывается порывистый и пылкий нрав юноши, у которого прелести искусства и природы, одушевленные и неодушевленные (в особенности первые), вызывали восторг, не знакомый натурам более рассудочным. Стоило этому невинному молодому эпикурейцу увидеть прекрасный ландшафт, прекрасную картину или красивую женщину, как он прямо пьянел от восхищения. Взор его упивался этим зрелищем, а душа, казалось, пела и ликовала. И хотя Он придерживался того правила, что всякий обед хорош, и готов был довольствоваться куском хлеба с сыром и кружкой пива, редко кому бутылка кларета доставляла такое наслаждение.
На заре жизни мы особенно любим писать письма. Юноша в расцвете сил и здоровья, чья кровь бурлит в молодых жилах, кому жизнь улыбается, а природа и люди выказывают свою благосклонность, ищет человека, с которым мог бы поделиться этой радостью жизни, поскольку иначе она остается неполной. Я оказался в этом отношении самым подходящим для Клайва лицом. Он возвел меня в сан друга и назначил наперсником; наделил означенного наперсника бесчисленными добродетелями и достоинствами, существующими, главным образом, в его собственном воображении; сетовал, что нет у наперсника сестры, на которой бы он, Клайв, не задумываясь, женился; и на тысячу ладов изъявлял мне свою искреннюю любовь и восхищение, о чем я упоминаю здесь лишь для того, чтобы познакомить вас с характером юноши, а вовсе не в подтверждение своих добродетелей. Книги, подаренные автору этой хроники "…преданным его другом Клайвом Ньюкомом", и по сей день хранят на титульном листе следы его юношеских чувств и детского почерка. Свой экземпляр "Уолтера Лорэна" он богато переплел и заказал ему золотой обрез, заставив автора краснеть за свой труд, который давно уже стал продаваться по цене, доступной самому тощему кошельку. Повстречав однажды в "Пристанище" газетчика, посмевшего своей статьей возвесть хулу на это произведение, Клайв так распалился, что затеял с ним драку. И хотя потом пора восторгов, как и положено всему на свете, миновала, чувства двух старых друзей, утратив былую романтичность, надеюсь, ничуть не ослабли, когда кончилось время веленевой бумаги и золотых обрезов. Груда писем, написанных восторженным юношей в тот период, послужит материалом для следующей части его биографии. Людям опытным, если им случится перелистать эти страницы, наверно, припомнится кое-что из их прошлого, а молодым, когда прочтут они эту летопись, придут на ум их собственные увлечения, провинности, оплошности и проступки.