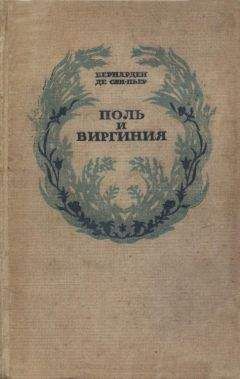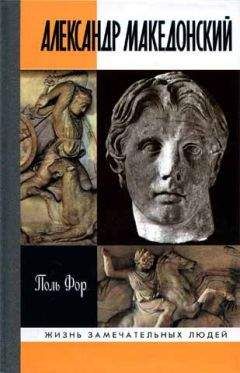Грубиянские годы: биография. Том I - Поль Жан
№ 38. Стекло Марии
Рафаэла
Когда Готвальт проснулся, все вчерашнее поначалу было забыто, но горы, которые он видел накануне вечером за окном возле своей кровати, так алели в утреннем свете, что его желание путешествовать вернулось – а вслед за тем и сожаление о собственной бедности – и наконец мысль, что ведь теперь он располагает завещанными ему двадцатью луидорами. Тут он поискал глазами городскую башню, на верху которой теперь, должно быть, располагался castrum doloris умершего Флитте, и хотел бросить скорбный взгляд на ее верхний ярус.
Но лицо его оставалось ясным, как он ни принуждал глаза к состраданию: романтическое путешествие в такие синие дни – при таких обстоятельствах – подаренное ему столь внезапно – для него это было как проход через ярчайшее солнце счастья, где свет струится золотой пылью и сам идущий начинает сверкать.
Страшно раздосадованный тем, что не может пробудить в себе скорбные чувства, Вальт, не помолившись, выбрался из-под перины и принялся допрашивать свое сердце. Увы, как он ни недоумевал и ни бранился, как ни ставил сердцу на вид бледного молодого покойника с башни и его закрытые глаза, которые уже никогда не увидят утреннего солнца: ничто не помогало, путешествие и, соответственно, деньги, делающие его возможным, сохраняли золотой блеск, к которому сердце очень охотно присматривалось. Наконец, разозлившись, Вальт спросил: уж не принадлежит ли оно – как видно по его ответам – дьяволу во плоти; и неужели, будь это в его силах, оно не спасло бы бедного завещателя – тотчас и с радостью – и не поставило бы, так сказать, на ноги. Нотариус несколько успокоился, услышав ответ: конечно, спасло бы – с радостью и немедленно. Тут ему вспомнилось обещание сторожа с башни: вывесить в качестве траурного флага белый носовой платок, если молодой человек умрет. Но поскольку там, наверху, Вальт никакого платка не увидел (и все же ощутил, именно поэтому, некоторую радость): он отпустил с допроса бедное сердце, по-настоящему рассердившись на себя за то, что без нужды так наседал на этого порядочного и доброго малого.
Впрочем, достаточно было бы спросить у этого плута, а как бы он отреагировал – даже если бы его ждало в десять раз большее наследство – например, на смерть брата: и тогда, услышав, что такое бремя было бы слишком тяжелым, а голова слишком низко опущенной, чтобы видеть хоть что-то еще, кроме могилы и своей утраты, нотариус легко пришел бы к выводу, что только любовь порождает скорбь и что он напрасно требовал от себя, чтобы – по отношению к эльзасцу – вторая из этих двух была велика, если первая оставалась столь малозначимой.
Теперь он увидел белый носовой платок, но не на башне, а у Рафаэлы, которая печально совершала увеселительную прогулку по парку и которой нынешняя женская мода, не предусматривающая карманов, предоставила счастливую возможность держать в руке этот косметический клапан чувств, эту летную перепонку фантазии. Рафаэла поглядывала на башню, несколько раз взглянула и на его окно и поприветствовала нотариуса, невзирая на свою скорбь; даже будто бы сделала знак, чтобы он спустился вниз, так ему показалось (но он не был вполне уверен) – потому что Вальт знал по английским романам, сколь далеко порой заходит женская тактичность. Пока он размышлял, к нему в комнату зашла Флора и действительно передала просьбу спуститься вниз.
Он пошел к растроганной барышне, будучи сам растроган. «Я легко могу представить себе, – думал он, спускаясь по лестнице, – каково ей сейчас, когда она смотрит на башню и знает, что там, наверху, вот-вот положат в гроб единственного человека, который, вооружившись лишь искреннейшей любовью, подобной материнской любви к неудачному ребенку, прекрасно справился с отталкивающим впечатлением, производимым ее внешностью».
– Простите мне предпринятый мною шаг, – начала она, запинаясь (и отняла от влажных глаз носовой платок, этот фартук сухого сердца), – даже если он, как вам представляется, вступает в противоречие с той деликатностью, какую представительницы моего пола должны выказывать вашему.
К сожалению (или, наоборот, к счастью), она обратила свои слова не к вспыльчивому Кводдеусу Вульту: ибо во всей Европе, или в Париже, или в Берлине вряд ли сыщется другой человек, который в такой степени, как он, ненавидел бы – догадываясь об их сути – ситуации, когда женщина противопоставляет свой и противоположный пол и ссылается на необходимые нежности между ними, отмечая, например, что определенная манера мужчины целовать даме ручку или диковатый взгляд выдают его нечистые помыслы и что более нежный из двух полов никогда не должен забывать о мерах самозащиты; на это флейтист ответил бы без всяких околичностей: мол, любая откровенная б… – святая (хоть и несколько задиристая) по сравнению с такими особами, таящими в себе бездну трусливой и одновременно тщеславной чувственности; ему знакомы подобного рода дамочки, которые подозревают в других какой-то порок, только чтобы самим безнаказанно думать о нем, которые на словах с этим пороком борются, чтобы – мысленно – дольше удерживать его при себе; некоторые даже набираются кое-каких медицинских познаний, чтобы иметь право произнести вслух – от имени науки (бесполой, как всем известно) – какое-нибудь «невинное» словцо; и перед алтарем, и повсюду в других местах, и уж тем более в постели, они, подобно Фридриху II, в любой момент готовы к сражению, живут en ordre de bataille. «Я уверен, – добавил бы он, – они ходят в анатомические театры, действительные или воображаемые, именно чтобы… смотреть на мертвые тела. Невинность возможна только когда ты не сознаешь, что делаешь, – как дети; в детстве ты невинен, но осознание себя – твоя смерть».
Так же, если прибегнуть к иносказанию, обстоит дело и со стеклом: истолченное, оно кажется совершенно белым; целое же – почти невидимо.
Но тот, кто так думал, не был Вальтом; нотариус же, когда Рафаэла обратилась к нему с приведенными выше словами, искренне ответил: мол, никакой шаг, даже совершенный представителем пола, к которому сам он принадлежит, – не говоря уже о другом, который вообще представляется ему самым святым, что только может быть, – он не истолковывает иначе, нежели так, как желательно задумавшему этот шаг сердцу.
Рафаэла только и хотела, что спросить его: как там умирающий – к которому она, как к другу отца, относится вполне благожелательно, как, впрочем, и вообще ко всем людям, и которого очень жалеет, – как он вел себя в ночь, когда изъявлял свою последнюю волю (благодаря семи свидетелям, будто через семь ворот, горожане уже успели получить ровно столько же «хлебов», то бишь достоверных версий этого события); она, мол, очень хотела бы узнать это, потому что, в любом случае, «умирающий» – понятие более высокого порядка, чем «живущий».
Нотариус отвечал добросовестно, то есть именно как нотариус: он, мол, надеется, судя по носовому платку, что больной еще жив. Рафаэла рассказала, что доктор Шляппке, когда его позвали в башню, хоть и согласился лечить этого больного, но только как безнадежного, – и, оправдывая свою репутацию мягкосердечной дамы, пожелала доктору, чтобы такой курс лечения удался.
– Это уже кое-что… не говоря о ночи, которую он все-таки благополучно пережил, – бодрым голосом заявил Вальт.
Но она заверила его, что, увы, не способна так легко утешиться; и вообще, она столь несчастна, что чужое страдание, даже малейшее (ее родственников) повергает ее в сильное волнение и доводит до слез… Слезы в самом деле заструились по ее щекам: потому что насколько трудно было другим людям растрогать ее, настолько же легко это удавалось ей самой. Кроме того, у женщин разговоры о плаче – вернейшее средство, чтобы заплакать. Нотариус был душевно рад всем этим проявлениям растроганности, которые отчасти наблюдал, а отчасти и разделял. Милые женские слезы были для него такой же лакомой диковиной, как «Долговязый зеленый мадьяр», ниренштайнские «Яйца валуха», вормское «Молоко Богородицы» и прочие чистые, как слеза, вина, которые можно заказать у торговца Кортума в Цербсте. Вальт, демонстрируя все признаки участливого сердца, взглянул в глаза Рафаэлы, полные огненной влаги, и пожалел, что деликатность английских романов не позволяет ему взять (в какую-то из своих) ее нежную белую руку, которая маняще раскачивается перед ним, среди освещенной солнцем зелени, и хватается за росистые кусты, и потом поднимается к волосам, – чтобы укрепить эту руку, как, согласно предписаниям одного англичанина, укрепляют другие отростки.