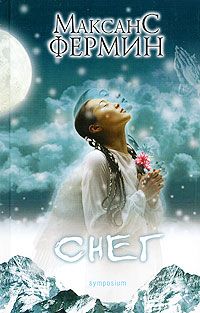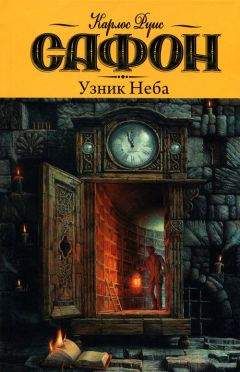Малькольм Лаури - У подножия вулкана
(«Ради бога, ни слова больше про этого Клиффа, — писал ей консул в одном из редких своих писем вскоре после их знакомства. — Он стоит у меня перед глазами, и я уже ненавижу этого мерзавца: он не видит дальше своего носа, циничен, шесть футов росту, весь костистый, и шерстистый, и напыщенный, у него вкрадчивый голос и страсть к суесловию». Надо признать, что консул был не так уж далек от истины, — бедняга Клифф! — но теперь не хочется так о нем думать и лучше не вспоминать ту самолюбивую девчонку, чья гордость страдала от его измен... «Он деловит, бездарен и ограничен, силен и умственно недоразвит, подобно многим американцам; способен в драке ударить стулом по голове, тщеславен и в свои тридцать лет глуп, как десятилетний мальчишка, ласки его омерзительны, как дизентерия...»)
«Замужество Ивонны вызвало «неблагоприятные отклики» в прессе, а после неизбежного развода всякое ее слово истолковывалось превратно, и, когда она решила ни слова больше не говорить, молчание ее было ложно понято. И не только пресса поняла ее ложно. «Дядя Макинтайр, — говорит она с горечью,— без колебаний отвернулся от меня».
(Бедный дядя Макинтайр. Это было невероятно и даже смешно — когда ты рассказывала про него друзьям, просто невозможно было удержаться от смеха. Это отродье Констеблов позорит нацию своей матери! Так пускай идет по стопам всех Констеблов! Бог знает, сколько их, подобно ей и ее папаше, по глупости или простодушию, докатились до такой дурацкой трагедии или трагикомедии. Они гниют заживо в сумасшедших домах Огайо или дрыхнут в своих захламленных гостиных на Лонг-Айленде, где куры бродят среди фамильного серебра и треснутых чайников, в которых припрятаны, как потом оказывается, бриллиантовые ожерелья. Констеблы — это ошибка природы, они обречены на вымирание. Безусловно, природа должна их истребить, как нечто бесполезное, неспособное к самостоятельному развитию. Если и был в них какой-то таинственный смысл, теперь он безвозвратно утерян.)
«И вот Ивонна покинула Гавайи, высоко держа голову, с улыбкой на губах, но боль и душевная пустота стали еще горше. Теперь она опять в Голливуде, и друзья, от которых у нее нет тайн, утверждают, что в жизни ее нет более места для любви, она поглощена только работой. И в студии утверждают, что недавние пробные съемки сулят подлинную сенсацию. «Неукротимая девушка» стала величайшей драматической актрисой Голливуда! Итак, Ивонна Констебл в двадцать четыре года вторично готовится стать кинозвездой».
... Но Ивонна Констебл не стала кинозвездой вторично. Ивонна Констебл даже не готовилась стать кинозвездой. Она нашла импресарио, который устроил ей шумную рекламу — очень шумную, хотя она внушила себе, что втайне боится всякой рекламы едва ли не пуще всего на свете, — ловко воспользовавшись тем успехом, который некогда имели ее скаковые трюки; но дальше расплывчатых обещаний дело не пошло. Кончилось тем, что она стала бродить в одиночестве по Верджил-авеню или по Марипосе, под пыльными, сухими, заброшенными пальмами Лос-Анджелеса, этого мрачного, проклятого «Города Ангелов», и даже не могла утешить себя мыслью, что трагедия ее, хоть и не нова, все равно остается ПОДЛИННОЙ трагедией. Ведь ее актерское честолюбие все-таки с самого начала было напускным: в некотором смысле — и она это понимала — виновата тут неестественность ее ролей, которые трудно назвать женственными. Она это понимала, и теперь, когда уже не осталось надежд (теперь, когда она в конечном счете попросту переросла Голливуд), она понимала также, что могла бы при иных обстоятельствах действительно стать первоклассной или даже великой актрисой. В сущности, она ею стала потом (найти бы только настоящего режиссера), когда бродила по улицам или, тщетно пытаясь убежать от своей скорби, мчалась в автомобиле прямо на красные светофоры и ей мерещилось, как могло бы померещиться консулу, будто на афише в окне городского управления, где значилось: «Первый танцевальный вечер в этом году», написано: «в этом аду», а на табличке «По газонам не ходить» — «По фасону не носить». И на щите для афиш — «Пользуйтесь услугами службы точного времени» — маятник огромных голубых часов качался, как настоящий. Слишком поздно! И вот из-за этого, из-за всего этого знакомство с Жаком Ляруэлем в Куаунуаке, вероятно, и сыграло столь пагубную, роковую роль в ее жизни. И не только в том было тут дело, что их обоих связывала близость к консулу и через Жака она таинственным образом постигла, можно сказать, обрела в дар нечто прежде ей совершенно недоступное, изведала детскую наивность консула; ведь с ним одним могла она говорить о Голливуде (порой не вполне откровенно, но взволнованно, как говорят близкие родственники о ненавистном главе семейства, и какое облегчение они при этом испытывали!) с общим чувством презрения, припоминая вскользь свои неудачи. Оказалось даже, что они были там одновременно, в тридцать втором году, да еще как-то раз в одной группе («натурные съемки — пикник — бассейн — бар»), и она показала Жаку то, что старательно прятала от консула, старые фотографии «Ивонны Свирепой» в кожаной куртке, украшенной бахромой, в брюках для верховой езды и башмаках с высокими каблуками, в шляпе вместимостью добрых десять галлонов, и сегодня, в это ужасное утро, когда консул увидел ее, в его удивлении и замешательстве, кажется, проскользнул испуг — ну конечно же, Хью с Ивонной выглядели, словно какие-то карикатурные двойники!.. А однажды в той мастерской, куда консул демонстративно не хотел заходить, мсье Ляруэль показал ей несколько кадров из своих старых французских фильмов, и обнаружилось, что один из них — боже правый! — она видела в Нью-Йорке перед тем, как снова уехать на Восток. И она опять очутилась в Нью-Йорке (не выходя из мастерской Жака) в тот морозный зимний вечер на Таймс-сквер — она жила в отеле «Астор» ,— и глядела на светящиеся буквы, которые вспыхивали высоко над редакцией «Таймса», сообщая новости о несчастьях, самоубийствах, банкротствах, о надвигающейся войне и просто ни о чем, а она стояла в толпе, глядя вверх, и вдруг буквы исчезли, канули во тьму, и ей показалось, что с исчезновением новостей настал конец света. Или, может быть, это Голгофа? И она шла, бездомная сирота, одинокая неудачница, но все равно богатая, все равно красивая, шла не в свой отель, а куда глаза глядят, среди пышного изобилия и сытости, в страхе избегая баров, куда так манила ее приятная теплота, и чувствуя себя несчастней, чем последняя проститутка: она шла — преследуемая, неотступно преследуемая, — по безумному, сверкающему огнями городу — «Дешевизна и великолепие», эти слова то и дело мелькали перед ней, или «Тупик», или «Ромео и Джульетта», а потом снова «Дешевизна и великолепие», — и все та же ужасная тьма не покидала душу, помрачая ежесекундно ее лживое, одинокое благополучие, ее греховную, неприкаянную, смертельную безысходность. Электрические молнии пронзали ей сердце — но они таили в себе ложь: она знала, все сильнее терзаемая страхом, что тьма по-прежнему заключена в них, исходит от них. Мимо нее ковыляли трясущиеся калеки. Проходили ворчливые мужчины с угасшими, безнадежными лицами. Головорезы в широченных красных штанах караулили у открытых подъездов, на ледяном ветру. И всюду была тьма, во всем мире, бессмысленном, бесцельном — «Дешевизна и великолепие», — но в мире этом, казалось ей, все люди, кроме нее, могут, пускай притворно, пускай нескладно, сиротливо, уродливо, обреченно, могут все-таки, хоть бы чувствуя в себе смутный порыв, или подбирая окурок на улице, или пьянствуя в баре, или приставая с домогательствами к ней самой, обрести веру... «Le destin de Yvonne Griffaton»[180]... Она стояла теперь — все так же неотступно преследуемая — перед маленьким кинематографом на Четырнадцатой улице, где показывали старые американские и заграничные фильмы. А на афишах одинокая женская фигурка, и нет сомнений, что это она, Ивонна, брела по тем же глухим улицам, в той же шубке, только теперь над головой и со всех сторон она видела; «Dubonnet, Amor Picon, Les 10 Frattelinis, Moulin Rouge». И когда она пошла в зал, голос произнес: «Ивонна, Ивонна!» — и какой-то конь, огромный, во весь экран, словно прыгнул прямо на нее; та одинокая фигурка прошла мимо памятника, и голос, воображаемый голос, который преследовал на темных улицах Ивонну Гриффатон и ее самое тоже, словно она из реального мира вступила прямо в этот мрачный мир, открывающийся на экране, звучал неумолчно. Бывают фильмы, и этот фильм был как раз таков, которые можно смотреть с середины, и все равно сразу же возникает уверенность, что тебе в жизни не приходилось видеть ничего лучше; столь поразительно совершенен его реализм, что уже не имеет значения ни сюжет, ни личность героя и захватывает лишь совершающаяся катастрофа, неотвратимая опасность, полнейшее слияние с человеком, которого подстерегают, настигают, и сейчас человек этот — Ивонна Гриффатон, или Ивонна Констебл! Но если Ивонну Гриффатон подстерегали, преследовали — ясно было, что фильм рассказывает о падении какой-то француженки из богатого аристократического семейства, — то и она сама преследовала, искала, нащупывала что-то, Ивонна поначалу не могла понять, что же именно, в этом мире теней. Странные призраки вставали на ее пути у стен и за углами: вероятно, призраки прошлого, ее любовники, и тот единственный, по-настоящему любимый, который покончил с собой, и ее отец, а потом она вошла в церковь, надеясь, вероятно, найти там убежище. Ивонна Гриффатон молилась, но один из призраков распростерся на ступенях пред алтарем; это ее первый любовник, и вот уже она безудержно смеется, она уже в Фоли-Бержер, она в Опере, и оркестр играет «Заза» Леонкавалло; а теперь она в игорном доме, рулетка вертится с бешеной быстротой, еще миг, и она у себя в комнате; фильм превращается в сатиру, чуть ли не в пародию на себя: быстрой чередой перед нею проходят ее предки, мертвые, застывшие символы своекорыстия и несчастья, но в ее воображении они, видимо, обретают романтический ореол, превращаются в героев, которые стоят, собрав последние силы, прислонившись к тюремной стене, стоят непоколебимо, как изваяния, в военных повозках, падают под пулями в дни Парижской коммуны, падают под прусскими пулями, непоколебимые в бою, непоколебимые перед лицом смерти. Вот отец Ивонны Гриффатон, замешанный в деле Дрейфуса, появился перед нею, корча дикие, насмешливые гримасы. Догадливые зрители смеялись, покашливали, что-то бормотали, и почти все они, надо полагать, знали то, что для Ивонны так и осталось непонятным: каким образом эти персонажи и события связаны с теперешней участью Ивонны Гриффатон. Все это было скрыто в предыдущих кадрах. Пришлось Ивонне высидеть кинохронику, юмористический мультфильм, короткометражку под названием «Жизнь африканской двоякодышащей рыбы» и старую картину «Человек со шрамом», и только тогда она увидела то немногое, что, возможно (но и в этом у нее не было твердой уверенности), проливало известный свет на собственную ее судьбу, предопределенную деяниями, которые канули в прошлое и могут, насколько ей дано понять, вновь повториться в будущем. Но вопрос, не дававший покоя Ивонне Гриффатон, теперь был ясен. Английские титры не оставляли сомнений. Что может она поделать, отягченная таким наследием? Как ей избавиться от этого вечного бремени? Неужели она обречена на беспрерывные трагедии, которые едва ли ниспосылаются, в это не могла поверить и Ивонна Гриффатон, за какие-то грехи давно умерших и преданных проклятию людей, на трагедии, столь очевидно бессмысленные? Да, как от этого избавиться? Ивонна не знала сама. Это бессмысленно — и все же человек обречен? Разумеется, можно хоть сейчас возвести несчастных Констеблов на романтический пьедестал: считать или воображать себя одиноким, несчастным созданием, которое несет на себе бремя предков, ощущает их бессилие, их варварство (хотя бы и придуманное за отсутствием такового) в своей крови, жертвой темных сил, — ведь это неизбежный удел всякого человека! — мученицей, трагически непонятой и все-таки сохранившей в себе волю! Но что дает воля, когда в душе нет веры? Теперь она поняла, что этим терзается Ивонна Гриффатон тоже. Этого и она ищет с самого начала, везде и всюду, стремясь приобрести веру, — словно ее можно приобрести, как покупают новую шляпу или снимают жилье! — да, и то, что она вот-вот найдет и одновременно потеряет, вера в какое-то дело, все же лучше, чем ничего. Ивонна вышла покурить, а когда вернулась, похоже было, что поиски Ивонны Гриффатон увенчались успехом. Ивонна Гриффатон начинала обретать свою веру в простом наслаждении жизнью, в путешествиях, в новой любви, в музыке Равеля. Звуки «Болеро» полились волной, пустились вприпрыжку, в пляс, Ивонна посетила Испанию, Италию; вот на экране море, Алжир, Кипр, пустыня с далекими миражами, сфинкс. О чем говорит все это? О Европе, подумала Ивонна. Да, ей не уйти от Европы, от ее столиц, от Эйфелевой башни, это она знала всегда... Но если так, почему же она, столь щедро одаренная волей к жизни, никогда не могла удовлетвориться простой верой «в жизнь»? И не только в нее!.. В самоотверженную любовь... в звезды! Ведь это немало.