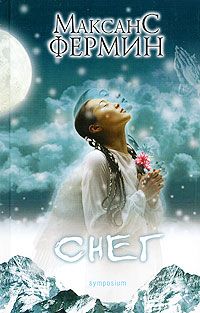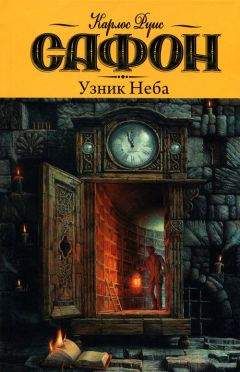Малькольм Лаури - У подножия вулкана
И это достижимо. Это достижимо! Ведь все зависит только от них самих. Ах, остаться бы сейчас с Джеффри наедине, рассказать ему обо всем этом! Хью, который сидел рядом, сдвинув на затылок свою ковбойскую шляпу и поставив ноги в башмаках с высокими каблуками на спинку передней скамьи, казался теперь лишним, чужим, никчемным, как все то, что происходило внизу, на арене. Он пристально, с увлечением смотрел, как подготавливают быка, но почувствовал на себе ее взгляд, беспокойно моргнул, стал искать сигареты, нашел пачку и убедился, почти не глядя, на ощупь, что она пуста. На арене ходила по рукам бутылка, верховые передавали ее друг другу и наконец отдали тем людям, которые сгрудились около быка. Двое верховых бесцельно разъезжали по кругу. Зрители покупали лимонад, фрукты, хрустящий картофель, вино. Консул тоже, видимо, хотел купить вина, но передумал, потрогав пальцем бутылочку, зажатую у него в руке.
К быку снова полезли пьяные, норовя сесть на него верхом; вскоре им это наскучило, они вдруг обратили все свое пылкое внимание на лошадей, но вскоре присмирели, их выгнали вон, и они ушли пошатываясь.
Опять появился бородач со своей свистящей, изрыгающей пар «Ракетой» и вскоре исчез, словно она увлекла его прочь. Зрители затихли, наступило такое молчание, что Ивонне показалось, будто она слышит какие-то звуки, быть может все тот же шум ярмарки далеко, в Куаунауаке.
Молчание заразительно, как и веселье, подумалось ей, неловкое молчание одних передается другим, тяжелеет, ползет дальше, нелепое, обволакивающее, и вот оно уже овладело всеми. Ничто в мире не может сравниться с властью такого вот внезапного молчания...
... а дом в туманной дымке окроплен трепетным светом, пронизывающим нежную, молодую листву, но вот туман отлетает к морю, и горы, еще убеленные снегом, вырисовываются четко и ослепительно в синеве неба, и над трубой вьется голубоватый дымок, потому что в камине горят щепки, выловленные из моря; под крытым дранкой пологим навесом, куда ветер заносит облетающие лепестки кизила, красиво и ровно сложены дрова; вот топор, мотыги, грабли, лопата, вот глубокий, студеный колодец, и над ним, как страж, деревянная статуя с погибшего корабля, которую волны прибили к берегу; вот старый чайник, и новый чайник, и еще чайничек для заварки, кастрюли, котелки, посудный шкаф. Джеффри работает на воздухе, пишет от руки, по своему обыкновению, а она сидит у окна, за письменным столом, и стучит на машинке — она непременно этому научится и будет перепечатывать все его рукописи, аккуратно, без помарок, скользя глазами по косым строчкам, где разбросаны такие знакомые, причудливые «е», похожие на греческие, и странно выписанные «т», и вдруг, оторвавшись от работы, увидит тюленя, он вынырнет из воды, оглядится и беззвучно уйдет в глубину. А порой цапля, словно игрушечная, сделанная из картона и проволоки, пролетит, медлительно взмахивая крыльями, с важностью опустится на утес, застынет там, стройная и недвижная. А зимородки и ласточки будут виться у карниза или слетятся на причал. И чайка, спрятав голову под крыло, проплывет на мокрой коряге, вон ее кидает, кидает с волны на волну... Все припасы они станут покупать в лавке за ближним лесом, как и говорил Хью, видеться будут лишь с местными рыбаками, чьи белые суденышки зимой; качаются, поставленные на прикол, здесь же, в заливе. Она будет стряпать и убирать, а Джеффри рубить дрова и носить воду из колодца. И они будут работать, упорно работать над его книгой, которая принесет ему мировую славу. Но, как ни странно, эта слава будет им безразлична; они останутся жить, наслаждаясь простотой и любовью, в своем доме между лесом и морем. А во время отлива они будут глядеть с причала на прозрачное мелководье, любоваться бирюзовыми, алыми, пурпурными морскими звездами и мелкими бархатно –коричневыми Крабами, которые пробираются бочком меж обросших моллюсками камней, сверкая, словно парчовые, сердцевидные подушечки для иголок. А по субботам через залив поплывут прогулочные кораблики, одни за другим, рассекая воду с певучим плеском...
Зрители облегченно вздохнули, словно ветер прошелестел в листве, на арене что-то произошло, но Ивонна еще не видела ничего. Загудели голоса, в воздухе снова носились догадки, забористая ругань, остроты.
Бык тяжело вставал, и на спине у него был наездник, толстый, взъерошенный мексиканец, судя по всему, очень раздосадованный и озлобленный этой суетой. Бык, видно, тоже озлобился и стоял на месте.
Струнный оркестр по ту сторону арены фальшиво заиграл «Гвадалахару». «Гвадалахара, Гвадалахара», — пели музыканты, половина оркестра.
— Гвадалахара, — медленно протянул Хью. «Бряк-так, бряк-так-так», — частили гитары, а наездник метнул на них негодующий взгляд, ощерил зубы, крепче вцепился в веревку, захлестнутую вокруг бычьей шеи, рванул ее, и бык начал, казалось бы, делать то, чего все от него ожидали, яростно содрогнулся, словно тяжелый маховик, и неловко запрыгал на всех четырех ногах. Но тут же перешел снова на ленивую рысь и побежал вокруг арены. Усидеть на нем ничего не стоило, потому что он решительно не желал участвовать в забаве, тяжеловесно проскакал один круг и через ворота, распахнувшиеся под напором толпы, свернул прямехонько в загон, куда, без сомнения, давно уже стремился втайне, а теперь вбежал с внезапной решимостью, как ни в чем не бывало, быстро мелькая копытами.
Все засмеялись, словно услышали глупую шутку: смех этот как бы предвозвестил еще одну неудачу, он даже усилился, когда раньше времени через открытые ворота выскочил второй бык, которого осыпали жестокими ударами, тычками и пинками, дабы удержать на месте, но он только прибавил прыти, а на арене споткнулся и рухнул в пыль.
Наездник слез с первого быка в загоне, хмурый, оскандалившийся: право, было жалко смотреть, как он стоит у барьера, чешет в затылке и оправдывается перед одним из тех пареньков, что с изумительной ловкостью удерживали равновесие на верхней перекладине...
...и, быть может, еще в этом месяце, если долго продержится бабье лето, она будет стоять на веранде их дома за спиной у Джеффри и смотреть через его голову, склоненную над работой, на воду, где островами, целыми архипелагами скапливается белая пена и папоротниковые листья, увядшие уже давно — но красивые, дивно красивые, — и отражается ольховник, который роняет последнюю листву, и редкие тени стелются по камням, похожим на парчовые подушечки для иголок, а вокруг, среди опавших листьев, снуют сверкающие, словно парчовые, крабы...
Второй бык сделал две вялые попытки встать и улегся снова; по арене проскакал верховой, размахивая лассо и хрипло крича: «Ну-у, у-у, ну-у!..» Появились еще charros, каждый с лассо; откуда ни возьмись выскочила все та же бойкая собачонка, забегала вокруг; но все было тщетно. Ничто не вносило определенности, и ничто, казалось, не могло расшевелить второго быка, который дал опутать себя веревками, не вставая. Все были снова обречены на долгое ожидание и долгое молание, а внизу сконфуженно и неохотно готовили второго быка.
— Взгляни на бедного быка, — говорил консул, — его слава велика. Дорогая, ты не против, если я выпью самый крохотный глоточек, чуточку? Нет? Вот спасибо. И томительно сомненье, от веревок нет спасенья...
...и золотые листья, и багряные, а вон один листок, еще зеленый, кружится в воде вместо с окурком ее сигареты, и отражение жгучего осеннего солнца пылает меж камней...
— Или же семь раз — почему бы и нет? — томительно сомненье, от веревки нет спасенья. Дальше, кажется, там Кортес отважный глядит на океан, совсем не тихий, а дикий, и всех людей ужасней он... стоит безмолвно на вершине посреди Куаунауака. Ах черт, что за отвратительное зрелище...
— Еще бы, — сказала Ивонна, повернув голову, и ей показалось, что напротив, под оркестром, стоит тот самый человек в темных очках, которого она видела у отеля «Белья виста» сегодня утром и потом еще раз — или ей померещилось? — около дворца Кортеса. — Джеффри, кто это вон там?
— Странный какой-то бык, — сказал консул.— Норовит отвертеться... Враг перед ним, а он нынче не расположен вступать в дело. Ложится на землю... Или даже падает, видите, он попросту позабыл, что ему надлежит стать вашим врагом, все это вы сами выдумали, не угодно ли его погладить... Право слово... Увидишь его в следующий раз и даже не подумаешь, что это бывший враг.
— Бык как бык, — пробормотал Хью.
— Хоть и бык, а вола вертит... С умом валяет дурака. Бык все лежал не шевелясь, но его вдруг оставили в покое.
На арене толпились люди, о чем-то спорили. И верховые спорили на скаку, кричали, гикали. Но решительных действий не предпринимали, и, судя по всему, ожидать этого не приходилось. Кто же сядет на второго быка? — вот каков был наиважнейший вопрос, который словно носился в воздухе. И кроме того, как быть с первым, пришедшим теперь в ярость, ведь он буйствует в загоне, рвется на поле боя, так что его с трудом удается сдержать. Между тем вокруг Ивонны слышались отголоски тех препирательств, что шли внизу, на арене. Первому наезднику не дали попробовать силы всерьез, по справедливости, verdad[181]? No, hombre, нечего было вообще давать ему пробовать силы. No, hombre, надо дать ему попробовать еще раз. Немо-ожна, по программе должен выступить другой. Только он не пришел, или не мог прийти, или пришел, но выступать не намерен, или не пришел, хотя очень желал прийти, verdad?.. Но от этого ничего не изменилось, и первому наезднику не дали попробовать силы еще раз.