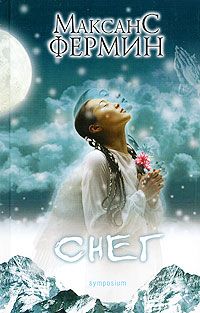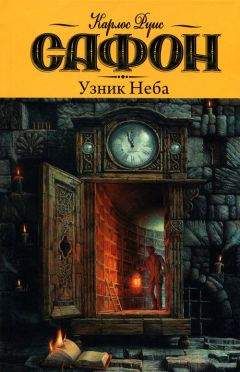Малькольм Лаури - У подножия вулкана
Время от времени на фургончике открывался клапан, труба изрыгала пар, полированный свисток издавал пронзительную трель. Похоже было, что этому рослому бородачу вовсе не хочется торговать орехами. Просто он не устоял перед соблазном показать людям свой замечательный паровозик; вот глядите, это мое достояние, моя отрада, моя надежда и, быть может, даже (он был совсем непрочь, чтобы так подумали) мое изобретение! И все были в восторге от него.
Он вывез фургончик, который напоследок весь изошел паром и залился победной трелью, прочь с арены в ту секунду, когда по другую сторону, из ворот, выскочил бык. Этот бык тоже рад был повеселиться — надо полагать. Роr que no?[178] Он ведь знал, что его не убьют, что это только игра и нужно принять участие в общей забаве. Но свое веселье бык покамест сдерживал; бурно ворвавшись на арену, он сбавил прыть и пошел кругами, медленно, задумчиво, хотя и поднимая при этом целые тучи пыли. Он, как и все, готов был с азартом отдаться игре, пускай даже ему от этого не поздоровится, но прежде люди должны признать, что он не роняет своего достоинства.
Однако зрители, сидевшие на грубом барьере с краю арены, при его приближении едва давали себе труд приподнять ноги, а те, которые лежали на животах, удобно высовываясь за нижнюю перекладину, как бы служившую им изголовьем, и вовсе не желали пошевельнуться.
В то же время какие-то темпераментные пьянчуги вылезали на арену и норовили раньше времени вскочить быку на спину. Это было нарушением правил: полагалось изловить быка особым способом, в честной борьбе, и потому их вывели с арены, а они шли, упираясь, ковыляли на нетвердых ногах, но сияли неиссякаемой радостью...
Зрители, в большинстве своем встретившие быка гораздо оживленнее, чем продавца орехов, разразились нетерпеливыми криками. Еще какие-то люди с легкостью вскакивали на барьер и стояли там, артистически удерживая равновесие. Мускулистые торговцы бесстрашно, одной рукой, поднимали в воздух тяжелые лотки с разноцветными фруктами. Мальчишка взобрался на развилину высокого дерева, прикрыл ладонью глаза и устремил взгляд за леса, к вулканам. Он высматривал самолет, но глядел не в ту сторону; словно в подтверждение этого самолет прожужжал негромко, крошечная черточка среди бездонной синевы. Но потом, далеко сзади, раздался запоздалый грохот, трескучий электрический разряд.
Бык сделал новый круг по арене, теперь он прибавил прыти, но бежал все так же размеренно и только раз уклонился в сторону, потому что какая-то бойкая собачонка увязалась за ним, норовя укусить, и сбила его с толку.
Ивонна распрямила спину, надвинула поглубже шляпку и стала пудрить нос, глядясь в каверзное зеркальце на крышке яркой эмалевой пудреницы. Оно напомнило ей, что всего пять минут назад она плакала, и еще там отражался Попокатепетль, словно заглядывал, приблизясь, через ее плечо.
Вулканы! Сколько волнующих чувств они пробуждают порой! Сейчас ей был виден лишь один вулкан; как ни поворачивала она зеркальце, ей не удавалось найти бедняжку Исту за плотной завесой, в незримой дали, но тем прекрасней было отражение Попокатепетля, сияющую вершину которого оттеняли темные громады облаков. Ивонна провела пальцем по щеке, слегка оттянула веко. Как глупо расплакалась она в дверях редакции «Новостей», когда тот щуплый человечек сказал, что уже «полпетуха четвертого» и теперь «немо-ожна» позвонить по телефону, потому что доктор Фигэроа уехал в Хиутелек...
...Ну что ж, вперед, на арену, ко всем чертям», — исступленно проговорил консул, и она расплакалась. Это было немногим лучше, чем другая глупость, которую она уже сделала сегодня, когда повернула назад, не видя даже, а только ожидая увидеть кровь. Но это вообще ее слабость, достаточно вспомнить ту собачку, издыхавшую в Гонолулу, на безлюдной улице, ручейки крови растекались по мостовой, и она хотела помочь, но ей вдруг стало дурно, это длилось всего с минуту, а потом она с ужасом поняла, что лежит одна на камнях, — вдруг кто-нибудь увидел бы ее там? — и сразу же ушла потихоньку, но с тех пор воспоминание о злополучном существе, брошенном на произвол судьбы, преследовало ее, и как-то... впрочем, стоит ли ворошить это? Да к тому же, разве не сделали они там все возможное? Ведь они пошли на арену только после того, как убедились, что телефона не найти. А хотя бы и удалось найти телефон! Когда автобус отъехал, несчастным идейцем уже занялись, судя по всему, но теперь она задумалась над этим всерьез, хотя сама не понимала причины... Она еще раз поправила шляпку перед зеркальцем, быстро моргнула. Глаза устали, и ей мерещилось непонятное. На миг она помертвела, вообразив, будто не Попокатепетль, а та старуха, что утром играла в домино, заглядывает сзади через ее плечо. Быстро защелкнув пудреницу, она с улыбкой повернула голову к своим спутникам.
Консул и Хью мрачно смотрели на арену.
Вокруг них, в толпе, некоторые заворчали, рявкнули, кое-кто лениво гикнул, а бык низко пригнул голову, мотнул рогами из стороны в сторону, словно подметая арену, отогнал собачонку и опять побежал по кругу. Но никто не радовался, не хлопал. Среди зрителей, сидевших на барьере, иные явно клевали носом, их клонило в сон. Какой-то человек от негодования рвал на куски сомбреро, еще кто-то безуспешно пытался попасть соломенной шляпой в своего приятеля, запуская ее наподобие бумеранга. Мексика не смеялась, забывая свою многострадальную историю; Мексика изнывала от скуки. И бык тоже изнывал от скуки. Все вокруг изнывали от скуки, по-видимому, уже давно. Просто-напросто Ивонна выпила в автобусе и была под хмельком, а теперь опьянение рассеивалось. Среди гнетущей скуки бык описал круг и, словно под гнетом скуки, улегся наконец с краю арены.
— Прямо как Фердинанд.. .— заметила Ивонна, еще на что-то надеясь.
— Нанди, — негромко проговорил консул (ах, ведь не зря же держал он ее за руку в автобусе?), искоса, одним глазом поглядывая сквозь табачный дым на арену, — я нарекаю этого быка Нанди, на котором восседает Шива, из чьих волос вытекает Ганг, отождествляемый порой с ведическим богом грозы Индрой, известным древним мексиканцам под именем Ураган.
— Старина, остановись, Христа ради, — сказал Хью, — уволь меня от этого.
Ивонна вздохнула; слов нет, зрелище было утомительное и тошнотворное. Только пьяные веселились вовсю. Сжимая в руках бутылки с текилой или мескалем, они опять ковыляли на арену, к распростертому Нанди, с потыкаясь, толкая друг друга, а их отгоняли прочь charros[179], которые пытались поднять бедного быка на ноги.
Но бык упрямился, не вставал. Наконец какой-то мальчишка незаметно для всех подкрался сзади и, как видно, укусил быка за хвост, после чего пустился наутек, а бык содрогнулся, вскочил. И сразу же ковбой на страховидном коне метнул лассо. Но бык легко освободился: лассо захлестнуло ему только одну ногу, и он пошел прочь, встряхивая головой, но снова завидел назойливую собачонку, круто повернулся и отогнал ее на несколько шагов...
И на арене вдруг поднялась суета. Все решительно: конные, величественно восседавшие на лошадях, и пешие, которые бегали или стояли на месте, размахивая старыми плащами, полотнищами и просто тряпками, лезли вон из кожи, чтобы расшевелить быка.
Теперь его уже всерьез влекли, заманивали в какую-то ловушку, и он бессилен был разгадать козни этих людей, к которым испытывал такое дружеское расположение и не прочь был с ними поиграть, а они коварно поощряли это дружелюбие, желая опозорить, унизить его, и теперь он попался.
...А Ивонна видела своего отца, он шел к ней, витал над рядами, по-детски доверчиво улыбаясь всякому, кто протягивал ему дружескую руку, это был он, ее отец, чей неподдельно веселый, сердечный смех еще звучал у нее в памяти, и она до сих пор не расставалась с его портретиком, с которого глядит молодой капитан в мундире времен испано-американской войны, и глаза у него серьезные, чистые, лоб высокий, красиво вылепленный, полные, чувственные губы улыбаются из-под темных, шелковистых усов, подбородок словно рассечен надвое — ее отец, одержимый роковой страстью ко всяким безумным затеям, который в один прекрасный день без колебаний уехал на Гавайи, где решил выращивать ананасы и на этом разбогатеть. Но у него ничего не вышло. Он скучал по военной жизни, терпел насмешки друзей и вынашивал хитроумные, неосуществимые планы. Ивонне потом рассказывали, что он сделал попытку изготовлять искусственный гашиш из ананасной кожуры и даже пробовал использовать энергию ближнего вулкана для машин, которые будут вырабатывать гашиш. Он подолгу сидел на веранде, пил и тянул заунывные гавайские песни, предоставив ананасам гнить на корню, а местные батраки собирались вокруг и подпевали хозяину или же спали, когда наступала пора снимать урожай, и плантация гибла, заглушаемая сорняками, давным-давно заложенная и перезаложенная. Вот как все это выглядело; Ивонна об этом времени почти ничего не помнила, только смерть матери запала в память. Шесть лет было тогда Ивонне. Близилась мировая война, истекал последний срок закладной, и тогда на горизонте появился дядюшка Макинтайр, брат ее покойной матери, богатый шотландец, ворочавший крупными делами в Южной Америке, который давно уже предсказывал банкротство своего зятя, и несомненно, под его влиянием капитан Констебл, всем на диво, стал вдруг американским консулом в Икике.