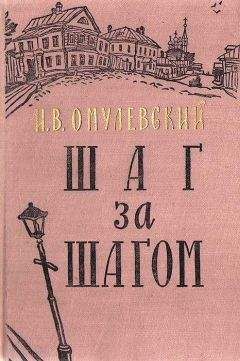Иннокентий Федоров-Омулевский - Шаг за шагом
Когда, уже на рассвете, Светлов вышел оттуда, на его спокойном лице не было ни малейшей тени...
III ВЕЧОРКА У СТАРОСТЫ СЕМЕНА
На другой день, часов в десять утра, когда Жилинские с приезжими гостями сидели еще за чаем, в столовую их вошел видный мужик среднего роста, в черном верверетовом кафтане и в черных же плисовых штанах, которые щегольски были заткнуты за высокие голенища новеньких кунгурских сапогов, тщательно смазанных свечным салом. Вошедшему можно было дать, с виду, лет тридцать пять -- не больше; в осанке и манерах его заметно обнаруживалась привычка распоряжаться, повелевать. Он был очень недурен собой: умные карие глаза бойко и прямо смотрели из-под несколько нависших, густых русых бровей, придавая всему лицу открытое и молодцеватое выражение, с оттенком того добродушного, затаенного лукавства, что так метко выражается у нас словами "себе на уме"; длинная, чуть-чуть рыжеватая, с редкой проседью борода почти совсем закрывала собой клинообразную полосу красной кумачной рубахи, открытую спереди воротом кафтана. Вошедший отвесил присутствующим общий, степенный поклон, с очевидным сознанием собственного достоинства.
-- А! Здорово, Семен Ларионыч! Садись-ка да выпей с нами чайку. Что новенького скажешь? -- весело проговорил старик Жилинский, вставая и здороваясь с ним, как с равным.
Казимир Антоныч подвинул к столу стоявшее поодаль кресло и несколько раз потрепал его рукой по подушке, любезно приглашая таким образом, нового гостя занять это место. Семен Ларионыч, прежде чем сесть, приятельски поздоровался с Варгуниным, деликантно прикоснулся концами толстых пальцев к руке Христины Казимировны и отдал особый, вежливый поклон Светлову, внимательно посмотрев на него сперва.
-- Что же ты новенького-то нам, Семен Ларионыч, скажешь, а? -- повторил Жилинский.
-- Да каки у нас новости, Каземир Антоныч? Все, батюшка, по-старому. А я вот к тебе... и пуще, значит, к твоей барошне... хошь и не за большим делом, а все же усердная просьбица будет...-- сказал Семен Ларионыч, осторожно садясь на указанное ему место и отдавая низкий поклон Христине Казимировне.
-- Верно, заболел у тебя кто-нибудь? -- спросила она, подавая ему стакан чаю.
-- Заболеть-то, слава богу, никто не заболел, а я больше насчет баловства пришел: дедки наши сказывали вчерась, что Матвей Миколаич, мол, пожаловали сюды с гостем,-- так вот вечорку хочем устроить у меня в избе; оно, может, хошь и тесновато маленько будет, а все же другой экой избы не найдешь здеся супротив моей. Вот и просим вас покорно пожаловать к нам ужо вечерком,-- скромно пояснил Семен Ларионыч.
Он привстал на минуту и опять раскланялся.
-- Ну что ж? Хорошее, хорошее дело. Спасибо! Придем,-- сказал Жилинский за всех.
-- А гостей у тебя много будет на вечорке? -- осведомился Варгунин.
-- Да как не быть! Уж постараемся для вас, Матвей Миколаич: девок да баб, что покрасивее -- всех в избу сгоним, и молодцов тепериче, которые позабористее; а остальные наши робяты и на дворе попляшут,-- не поскучают. Вестимо, всех в избу где загнать! -- ответил, улыбаясь, Семен Ларионыч и одним богатырским глотком сразу отпил полстакана чаю.
-- А дельцо-то вы свое, батенька... не отдумали? -- снова спросил у него Варгунин.
-- Где отдумать! Спасибо, еще дедки уговорили наших-то повременить: только твоей милости ведь и ждали. Завтре, об эту пору, во -- какой, гляди, переполох тут пойдет!..
Семен Ларионыч выразительно мотнул головой.
-- Да вот, молчи, вечерком ужо потолкуем,-- прибавил он и новым богатырским глотком допил свой стакан.
-- Какая же у тебя ко мне-то просьба? -- полюбопытствовала Христина Казимировна.
-- А к тебе особенная: чтоб ты, значит, не токмо что пожаловала, а и поплясала бы на вечорке,-- добродушно рассмеялся Семен Ларионыч.
Он торопливо встал, поблагодарил за чай, сказал: -- До повидания ужо! -- и ушел.
Семен Ларионыч, или староста Семен, как называла его обыкновенно вся фабрика от мала до велика, был личность далеко не дюжинная. Выбранный в старосты "дедами", он едва ли не больше их самих пользовался значением в глазах фабричных, верно угадывая характер и потребности этой неугомонной вольницы. Про старосту Семена даже "деды" говаривали, когда бывали навеселе: "У эвтого мужика четыре глаза да по крайности шесть рук". Действительно, Семен Ларионыч представлял собою чистокровный тип сибирской сметливости и находчивости: во всякое дело, бывало, вступится и из всякого дела выйдет чист; впрочем, худых дел за ним и не водилось,-- это также знала вся фабрика. Сойтись с Семеном Ларионычем было легко, стоило только заговорить с ним толково; он ладил даже с теми, кто, чувствуя за собой какой-нибудь грешок, имел повод бояться зоркого глаза старосты. В Ельцинской фабрике много жило постороннего народа, и иногда случались небольшие кражи, между тем как за своими ребятами даже фабричные старожилы не помнили этого порока. Староста Семен в подобных случаях живо разыскивал вора и прямо шел к нему с такой внушительной речью: "Ты, мол, это украл такую-то вещь: я ведаю, где она и лежит-то у тебя,-- так уходи от нас поскорее, вот тебе три дня строку, а не то -- шибко худо будет!" И вор исчезал обыкновенно из фабрики на вторые же сутки, зная, что шутить с старостой Семеном не приходится. Но никто не помнил там, чтоб Семен Ларионыч выдал когда-нибудь вора местной расправе. "От веселья не воруют" -- оправдывался он на этот счет перед "миром" и "дедами". Трудом и сметливостью староста Семен скопил себе порядочное состояние: фабричные поговаривали, что тысяч десять серебром лежит у него в мошне; но скуп он не был, не отказывался помочь в беде другу и недругу, хотя и не бросал денег на ветер, только любил кутнуть иногда, раз в два месяца и тогда уж, что называется, распоясывался. У Семена Ларионыча была лучшая во всей фабрике изба, да такая, что и избой-то ее называть не приходилось: чуть не целый двухэтажный дом; вверху жил он сам, а внизу оставались незанятыми две чистые, просторные и хорошо убранные, по-деревенски, комнаты -- "про всякий случай", как говаривал хозяин. Женат он был на первой фабричной красавице, но детей от нее не имел, и именно этим последним обстоятельством многие фабричные старики оправдывали одну непобедимую слабость своего лихого старосты: "до баб-то уж он был больно охоч". И "мир" стыдил его несколько раз за подобную слабость, и "деды" ему выговаривали, и сам, наконец, староста очень хорошо понимал, что "дело это пустое, неладное", да ничего не мог поделать с собой. "Такие уж у этих проклятых баб глаза окаянные -- масляные",-- пояснит, бывало, Семен Ларионыч "дедам" в свое оправдание -- и, глядишь, опять примостится к какой-нибудь "мужней жене": девушек он не трогал. "Девка -- что травка: подкосил -- завянет; а баба -- что твой ивовый прут: срежь его да воткни в землю -- все почку даст",-- говаривал староста не то шутя, не то серьезно. За "мир" свой он стоял горой; никакая сила не могла заставить его идти против "мира", разве уж сам увидит, что тот "больно брешет"...
Сегодня, как только смерклось, у просторных хором старосты Семена, стоявших в самом центре фабрики, толпился народ, поджидая начала вечорки и шумно переговариваясь. И вверху и внизу изба была освещена на славу: фабричный люд никогда еще не видывал у старосты столько зажженных свеч за один раз; и вверху и внизу то и дело поглядывали через окна на народ кучки стройных, красивых женщин: ни в одном салоне не встретил бы столичный фат столько красавиц сразу.
Действительно, внутри хором Семена Ларионыча был собран в этот вечер целый женский цветник, и цветы его были не искусственные -- выведенные в теплице, а природные -- выросшие на открытом деревенском воздухе; здоровье ярко пылало здесь на каждом лице, и только слишком уж испорченный городской жизнью человек мог бы пожелать, глядя на эти румяные лица, чтоб они, ради большей красоты, хоть немного прихватили "интересной бледности". Красивая кума Маня тоже присутствовала с мужем на сегодняшней вечорке: староста Семен хорошо знал, чем угодить Христине Казимировне. Изба была прибрана с некоторым щегольством: вымытый щелоком с дресвой пол, не успевший еще загрязниться от ног, невольно бросался в глаза безукоризненной чистотой; сундуки и скамейки у стен были прикрыты новенькими тюменскими коврами. Во второй комнате нижнего этажа, в углу под образами, стоял покрытый белою скатертью стол, обильно уставленный закусками и питиями, в числе которых две банки сардинок, паюсная икра в пузыре и три бутылки мадеры играли самую видную роль, а все остальное носило на себе более или менее туземный характер. За этим столом, на самых почетных местах, были усажены пока "деды" -- до прибытия более дорогих гостей. Приготовляясь к их встрече, два местных скрипача, оба самоучки, настраивали уже свои визгливые, сильно потертые, инструменты. Молодежь продолжала нетерпеливо поглядывать в окна, шушукалась между собой и любезничала.