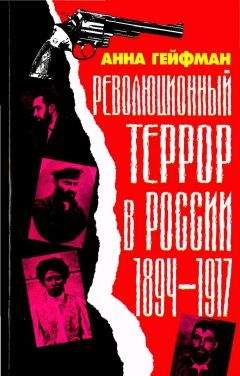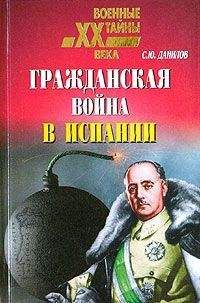Эльза Триоле - Анна-Мария
— Нет, я знаю, что говорю. Плевать он на меня хотел… Я нарочно притворяюсь непонимающей, но на самом деле все понимаю: он хочет чего-то добиться от моего мужа! В следующий раз, когда он позвонит, возьму и брошу трубку. И поссорю его с Гастоном.
— Вот как, в таком случае, он своего добился! Колетта, я запрещаю вам думать о нем, он не стоит вашего мизинца, — на всякий случай сказала Анна-Мария. — Вы еще найдете десяток таких, как он.
Колетта встала, потянулась, снова взялась за пирожное. Анна-Мария подумала, что, будь она мужчиной, никогда она бы не стала ухаживать за такой вот Колеттой. Она почувствовала легкое отвращение к Колетте: эти короткие ноги, эта жадность… Анна-Мария очень любила кошек, но никогда не держала их, кошки в период любовного томления вызывали в ней гадливость и тоску, а когда кот возвращался с разодранным ухом, ей тоже становилось противно. Глядя на эту самочку, которая решила, что ей по плечу большая любовь, Анна-Мария чувствовала, как в ней поднимается женская гордость. Когда нет любви, самолюбие полезно, оно позволяет вести себя с достоинством, но Колетту самолюбие не спасало, она вела себя так, словно у нее его и не было, а страдала так, словно ее у него хватало на десятерых. Тем хуже для нее. Но Анна-Мария тут же устыдилась своего презрения: а разве сама она не была уязвлена, когда Франсис, как ни в чем не бывало, укатил на следующий день после иллюминации? Не далеко она ушла от Колетты, разве только что умеет держать свои чувства в узде, но ведь она вдвое старше. И она снова принялась угощать гостью пирожными и вином, а потом очень ласково напомнила, что ей пора уходить, если она не хочет пропустить последний поезд метро. Анна-Мария была готова ее утешать, но ее не устраивало, чтобы Колетта здесь заночевала.
После ухода Колетты Анна-Мария облегченно вздохнула. Она разрешала людям вторгаться в свой дом, но тяготилась ими, они ее утомляли. Она заперлась в темной комнатушке, где в ванночках мокли снимки, и работала до поздней ночи.
XVIII— Это дело республиканской полиции… Но республиканской полиции трудно раскрыть заговор, нацистский или, если угодно, фашистский. Во-первых, добрая половина полиции на стороне заговорщиков; во-вторых, она не обладает той нацистской сноровкой, какая необходима в борьбе с нацистами. Вы понимаете, что я подразумеваю под словом «сноровка». Кагуляры и иже с ними живы и скоро покажут свои клыки.
Голос друга Жако, который представил его Анне-Марии просто под именем Роллан, сразу выдавал интеллигента. Они сидели перед камином в гостиной Анны-Марии, и Жако сердито подминал под себя раздражавшие его куски старинной парчи, накинутые на спинку кресла. Роллан был очень высокого роста, с седоватыми, зачесанными назад волосами: встретив его в поезде или в ресторане, вы сразу решили бы, что перед вами человек известный — ну, скажем, летчик-рекордсмен, государственный деятель или дипломат, путешествующий инкогнито… Светлые глаза, опушенные черными ресницами, великолепный лоб и мягкое, несколько утомленное выражение лица. На нем был костюм хорошего покроя, но не слишком новый.
— Авантюристические замыслы кагуляров, — продолжал он, — идут в различных направлениях… Перед войной это была террористическая организация, ставившая себе целью свержение республики. Во время оккупации часть кагуляров отправилась в Лондон, другие предпочли Виши и «национальную революцию» Петена… Некоторые из них вели двойную, если не тройную игру! В их делах есть много загадочного… При каких обстоятельствах был убит Делонкль, которого считают главой кагуляров? Кто организовал его убийство после поездки в Испанию, где он, как говорят, встречался с англичанами? Выдали ли его французы, сидевшие в Лондоне, потому что он был им помехой, или он просто попал в лапы гестапо, как то могло случиться со всяким?
Казалось, он пересказывает детективный роман. Анна-Мария предпочла бы, чтобы это и был роман, ей не хотелось верить, что все это существует в действительности. Но ей нравился его голос, его светлые глаза, длинные ноги…
— Можно предположить, — продолжал он, — что в Синархию — тайное общество, которое главенствовало над всеми другими, — входило много кагуляров. Эти организации не могли не найти друг друга, их пути неизбежно скрещивались: во Франции не так уж много людей их толка… Если говорить высоким стилем, так сказать, языком поэзии, они, на мой взгляд, величайшие преступники, заговорщики просто из любви к заговорам, просвещенные бандиты с большой дороги, любители риска, которым уже приелся спорт, ибо спорт — это скелет риска, лишенный романтической плоти приключения, идеологии, честолюбия, не имеющих ничего общего с духом спортивного соревнования… Если говорить языком поэзии. Но у поэзии свои права. Вот почему порой может создаться иллюзия, что бандиты эти — не просто бандиты.
— Кагуляры — вольный перевод американского ку-клукс-клана, — пояснил Жако. — Но, говоря о ку-клукс-клане, трудно пользоваться языком поэзии. Ку-клукс-клан более обнаженно выражает все то же самое явление — нацизм.
У Роллана вырвался смешок:
— Да, ку-клукс-клан ничем уж не приукрасишь. Полагаю, что у негров, когда их линчуют, нет никаких иллюзий в отношении этих чудовищ, этих буйно-помешанных, разгуливающих на свободе. Не забывайте, что во время своих операций члены ку-клукс-клана носят капюшон…
— Если вы будете продолжать в том же духе, — прервала его Анна-Мария, — я просто попрошу вас остаться у меня на ночь с автоматами…
Словно призывая к порядку аудиторию, Жако мерными ударами выколачивал табак из трубки.
— Аммами, — отозвался он, — нужно уже сейчас приучать себя к мысли, что вокруг вас враги, и жить с оглядкой… Скоро все коллаборационисты выйдут из тюрем, все, слышите — все: убийцы, грабители, предатели, неустойчивые элементы, петеновская милиция, ЛВФ[40]; все, кому нечего терять, чье сердце гложет бешеная злоба!.. Вы думаете, такие промахнутся? У дверей каторги и тюрем их будут поджидать другие, те, кто их сгруппирует, организует, направит. Пять лет оккупации научили нас и наших противников всем уловкам конспирации. На сей раз схватка будет страшной — гражданская война, и тайная и открытая… Но мы ждем их в полной готовности, этих французских убийц.
— Нам, — сказал Роллан Незнакомец, — нам предстоит защищать нечто большее, чем свою шкуру, нам предстоит защищать будущее всего человечества, Францию — эту звезду на челе мира… Если у нас наступит мрак, вся земля погрузится во тьму. Слишком многое придется начинать сызнова. Нет!
Незнакомец повернулся, и Анна-Мария увидела его светлые глаза, упрямо сжатые губы.
— Вот до чего мы дошли, — сказала она с грустью, — я не видела вокруг себя ни одного испуганного лица и думала, по наивности, что никто, кроме меня, этого не чувствует… Но и я только чувствовала, а вы — вы знаете.
Они замолчали. Жако курил. Незнакомец смотрел на догоравшие угли. Анна-Мария встала, поворошила их.
— С вашей квартирой, — сказал Жако, — дело не ладится, но мы своего добьемся. Правда, по словам консьержки, тот субъект прислал к ней своего поверенного, подозреваю, что в действительности она сама к нему отправилась: он якобы грозит ужасными карами!
Кроме того, на дом был совершен налет, и из квартиры унесли все, вплоть до ковров, помните громадные ковры, прибитые к полу гвоздями. Надо полагать, они действовали совершенно спокойно, раз успели увезти такие ковры. Не знаю, представляете ли вы себе… Я велел опечатать квартиру.
— Да, действительно дело не ладится!..
У Анны-Марии не было ни малейшего желания перебираться на новую квартиру, — недостает еще, чтобы ее там убили. Но в таком деле необходимо одержать верх.
— Париж опаснее больших дорог времен дилижансов, — сказал Роллан Незнакомец, — у меня, например, только что увели машину, «отобрали» в буквальном смысле слова, и сделал это не кто иной, как бывший владелец, у которого ее в свое время реквизировали.
Анна-Мария вздохнула. Свет погас. Париж шевелился вокруг дома, как огромный спрут, выбрасывающий из себя чернильную жидкость. Перед тем как начнет литься кровь. Она думала о Рауле, о жандармах, убивших его… Обыкновенные, добродушные жандармы… Теперь все будет иначе. Для нее лично не важно: жить или умереть. Но умереть от руки этих новоявленных бошей…
Незнакомец поднялся. Комнату освещал лишь горевший камин, и голова Роллана тонула во мраке.
— Мы помешаем им, — сказал он, — не правда ли, Барышня?
Он нагнулся и прикрыл ладонью ее руку, лежавшую на подлокотнике кресла.
— Вам, наверное, Жако сказал, что меня прозвали Барышней?
— Нет, ведь это я вас окрестил так… Увидел вас в Гренобле, в кафе, с Раулем и спросил: что это за барышня? Так прозвище за вами и осталось. Как нога? Не беспокоит больше?