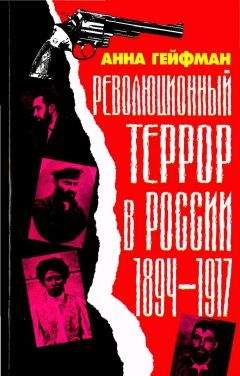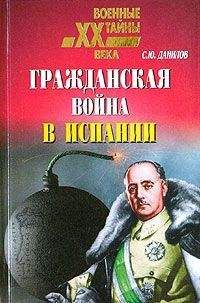Эльза Триоле - Анна-Мария
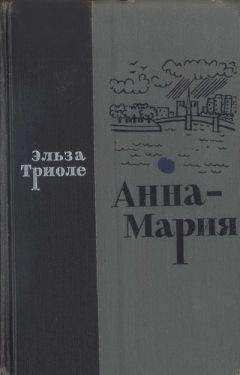
Обзор книги Эльза Триоле - Анна-Мария
Э. Триоле Анна-Мария
От автора — советскому читателю
Политика — это судьба
Наполеон«Анна-Мария» — роман, вписанный в быль своего времени. Автор надеется донести до советского читателя и роман и быль, реальность романа и романтику были: нашу фантастическую действительность.
Герои этого романа и судьбы их — вымышленные. Не вымышлены атмосфера, ситуация, быт во Франции 1936–1946 годов и в оккупированной Германии 1945 года. Автор подчеркивает сплетение вымысла и были, дабы его не упрекнули в разнузданной фантазии.
Довоенный Париж, времена гражданской войны в Испании… Молниеносная «странная война», как ее тогда называли, и странное освобождение, где победители скоро стали походить на побежденных… Крепости, замки, потайные ходы, гаражи, сеновалы, набитые оружием, генералы-заговорщики, бродящие по стране «вооруженные призраки» — вся эта фантастика действительно существовала. И существует поныне: военные заговоры, убийства, террор… «Вооруженные призраки» нашего времени, дети и внуки тех, что мы знавали до и во время войны: все те же против все тех же… Ведь победы полной не бывает, как не бывает и победы раз навсегда. «Освобождение» надо охранять, дабы не приходилось со отвоевывать снова и снова.
Э. Т.
Книга первая
Никто меня не любит
Часть первая
Женни Боргез считала меня своим лучшим другом. Теперь быть ее другом — большая честь, но, когда я увидела ее впервые, всеобщее внимание было сосредоточено на ней лишь потому, что она только-только появилась на свет. Акушерка показала нам синее попискивающее существо и объявила: «Девочка».
Мне исполнилось всего лишь десять лет, но, именно благодаря Женни, я поняла, что это возраст вполне солидный. Она первая пробудила во мне чувство ответственности и долга. Ее можно было спокойно доверить мне, а для мадам Боргез, матери Женни, и для молоденькой Раймонды, служившей в доме прислугой за все, это являлось немалым облегчением. Мосье Боргез преподавал в школе кантона Приморских Альп; был у Женни пятилетний братишка и старенькая бабушка. А тут еще куры, собаки, кошки, огород, фруктовый сад, стряпня, стирка, штопка. Мадам Боргез работала не покладая рук. Женни оставляли на мое попечение, и я часами укачивала ее, отгоняла назойливых мух, терпеливо надевала вязаные пинетки, вечно соскальзывающие с ее гладеньких ножек, старалась предупредить каждый крик, готовый вырваться из прелестного, как цветок, ротика, поддерживала ее голую, раскачивающуюся на тонкой шейке головку, такую хрупкую, что к ней страшно было прикоснуться, подбирала то погремушку, то мячик, которые Женни, лежа в колыбели или сидя на высоком креслице, поминутно швыряла на пол. У меня на глазах ее сморщенное личико разгладилось, она стала беленькой, розовой толстушкой, редкие каштановые волосенки завились хохолком на макушке, а первый зуб победоносно прорезал нежную десну.
Я прожила у Боргезов больше года. Моя мать подружилась с мадам Боргез еще в школе и оставалась ее задушевной подругой до самой своей смерти; я росла худенькой, бледной девочкой, и мой отец, врач, решил, что мне полезно пожить в деревне. Он поручил меня заботам мадам Боргез, не сомневаясь, что она будет ходить за мной, как за родной дочерью. Добрая, милая мадам Боргез — Камилла, как звала ее моя мать, — отцвела слишком рано: жизнь на открытом воздухе старит женщин куда быстрее, чем отравленный воздух Парижа и вся его косметика. Руки мадам Боргез заскорузли от работы в саду и на кухне, худощавая фигурка тонула в складках прямого, как балахон, платья, белокурые волосы, наспех заколотые двумя-тремя шпильками, были всегда растрепаны. Вечно в хлопотах, постоянно озабоченная, она успевала лишь изредка взглянуть на старшего брата Женни Жан-Жана, красивого, послушного мальчика. О нас, детях, пеклись ежечасно, держали всех троих в чистоте и опрятности, вовремя кормили, вовремя укладывали спать и редко бранили. В доме — простом маленьком домике — постоянно пахло мылом и воском; когда бы мосье Боргез ни возвратился из школы, его всегда поджидали любимые блюда, газета, домашняя куртка. Этот крупный угрюмый мужчина никогда не сидел без дела: то проверял ученические тетрадки, то возился в саду.
Но кумиром всего дома, несомненно, был Жан-Жан. Даже отец смотрел на него с чувством священного трепета, словно не понимая, как он мог произвести на свет такое чудо. Женни еще и на человека не походила, а родные уже сокрушались, что вся красота досталась мальчику, который прекрасно мог бы прожить и без нее: зачем мальчику эти огромные глаза, эти ресницы, как опахала, этот прямой носик, эти локоны? А вот девочке…
Однажды мадам Боргез застала меня в слезах: не могла я больше выносить постоянных восторгов по адресу Жан-Жана, я боялась, что Женни, которая на мой взгляд была в тысячу раз красивее брата, страдает от этих похвал. Посадив меня к себе на колени, мадам Боргез сказала мне, что я дурочка, что для матери все дети одинаково дороги, что в сердце своем она не делает разницы между Жан-Жаном и Женни и что шестимесячную малютку не могут огорчать похвалы, расточаемые ее брату. Через несколько дней, покормив Женни грудью и передавая ее мне, мадам Боргез спросила: «Ты все еще считаешь, что я люблю ее меньше, чем Жан-Жана?» За минуту перед тем я видела девочку у нее на руках, видела, с какой нежностью она смотрела на нее, и мне пришлось признаться: «Нет, теперь не считаю».
Родители увезли меня обратно в Париж, я ходила в школу и много занималась, чтобы наверстать упущенное. И все-таки я не забывала Женни. Когда мне довелось вновь увидеть ее, у меня от счастья даже голова закружилась. Родители взяли меня с собой на юг, мы ехали на машине и, чтобы провести день у Боргезов, сделали большой крюк. Сколько было радостных возгласов: как ты выросла! Какая стала большая и красивая! Мне исполнилось пятнадцать лет, и вряд ли я была большой и красивой, — на всю жизнь во мне сохранилось что-то детское, что-то хрупкое, незавершенное… Я нашла, что мосье и мадам Боргез сильно постарели, но, как учтивая, хорошо воспитанная девочка, сказала, что они ничуть не изменились. Тут в комнату вошли дети: Жан-Жан уже в этом возрасте походил на Рамона Наварро[1]. Но меня он ничуть не интересовал! Я осыпала поцелуями мою маленькую Женни; оробевшая девочка застыла у меня на коленях, тяжелая, словно большой сверток. Вся она была золотистая, как каштан: каштанового цвета кожа, каштанового цвета глаза, длинные, каштанового цвета волосы. Меня позвали в гостиную перекусить. Чуть заныло сердце, когда я опять увидела эти стены, оклеенные новыми обоями, широкий ландшафт за окном, приморскую сосну у самой террасы, оливковые деревья за сосной. Жан-Жан невозмутимо пил молоко, а Женни, возбужденная приездом гостей, в чью честь подали пирожные и вынули из горки китайские чашки, — к ним ей обычно строго запрещалось прикасаться, — путалась у всех под ногами. Она притащила откуда-то тряпку и принялась хозяйничать: вытирала паркет, смахивала пыль с нашей обуви, расстелила у меня на коленях салфетку и уже совсем было собралась поставить прибор… Как и следовало ожидать, все кончилось катастрофой: она опрокинула на платье матери чашку кофе и получила от отца шлепок. О, совсем легкий шлепок, просто так, для острастки. Зато взрослые обрели наконец покой.
Только к вечеру хватились Женни. Ее искали повсюду, где она имела обыкновение прятаться: заглядывали под кровать, в сундуки, в собачью конуру, даже обшарили весь огород. Тщетно! Мы уже начали не на шутку беспокоиться, но тут появилась Раймонда, все та же, знакомая мне с детства Раймонда. Она вела за руку Женни.
Боже мой, что за вид! По полу волочились концы материнской шали, которую Женни накинула себе на плечи, в правой руке она держала мужской зонт, который был вдвое больше ее самой, на левой руке висела корзинка. Каштановые глаза и круглый носик распухли от слез.
— Куда это ты собралась, Женни? — спросила мадам Боргез, нагнувшись к ней.
Никто меня не любит, — всхлипнула Женни, — пойду жить к сторожу.
— Вот как, — сказала мадам Боргез, — к сторожу? Не советую, тебе у него не понравится. Там каждый день едят суп, один только суп.
Женни задумалась. Потом поставила корзинку на пол, позволила матери отобрать зонт и шаль и покорно уселась к ней на колени. «Анна-Мария, передай мне, пожалуйста, коробку конфет, — попросила мадам Боргез, — там есть Женнины любимые, шоколадные». Инцидент был исчерпан, о стороже больше не упоминалось. Вскоре из кухни донесся голос Раймонды: «Женни, да угомонись ты наконец!» Мы вздохнули спокойно и от души посмеялись над этой историей со сторожем.
В тринадцать лет Женни выглядела настоящим сорванцом. Если бы не локоны, падавшие на шею, никто бы вовек не догадался, что этот долговязый паренек в холщевых брюках, полосатой майке и сандалях — на самом деле девчушка. Она сравнялась со мной ростом, а мне было двадцать три года, и не такая уж я маленькая. Мадам Боргез, с тревогой поглядывая на дочку, не раз говорила мне: «И куда только она растет, еще станет, чего доброго, такой великаншей, что хоть на ярмарке показывай».