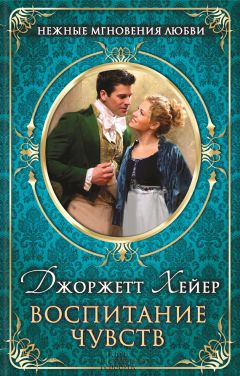Гюстав Флобер - Первое «Воспитание чувств»
Спокойствие, в коем Жюль захотел эгоистически пребывать, бесплодные высоты, на которых имел тщеславные потуги расположиться, так внезапно разлучили его с юностью, потребовали такой несгибаемой, цепкой воли, что он очерствел для нежности и почти уничтожил свое сердце. Воображением растравляя в себе чувствительность, он старался, чтобы разум упразднял любые ее следствия и сокровеннейшая суть переживания исчезала столь же мгновенно, как оно само.
Едва что-то поселялось в душе, он изгонял его оттуда без какой бы то ни было жалости, сделавшись негостеприимным повелителем, радеющим, чтобы его замок оставался пустым и можно было бы бродить по нему без помех; ничто не выдерживало его саркастических самобичеваний, первым объектом всеуничтожающей иронии становился он сам, а далее она переходила на других, еще более едкая и сокрушительная; он почти потерял привычку жаловаться; когда же в пору каких-либо разочарований и состояний нерешительности он все-таки снова оказывался во власти прежних слабостей, то ничего не добавлял к своим скорбям, как бывало встарь, а целиком погружался в них с безнадежным упрямством, составляющим вытяжку всех видов христианского и романтического страдания; и вот, от одного падения к другому, от неуверенности к попыткам продвижения на ощупь ему подчас удавалось безопасно преодолеть немалое расстояние на стезе всеобщих идей и страстей, а когда двигаешься вперед, взору приоткрывается все больше простора и солнечного света; так путнику, остановившемуся перевести дыхание на вершине высокой горы и бросающему последний взгляд на проделанный путь, будут едва заметны преграды, что давеча доставили столько хлопот, и он насилу разглядит те источники, у которых утолял жажду.
Несправедливый к прошлому, жестоковыйный по отношению к самому себе, он добился забвения собственных страстей, перестал даже понимать те, что испытывал раньше; теперь, коль скоро он не чувствовал каждодневной потребности изучать их для целей художественных и отыскивать у других, а затем воспроизводить в наиболее непосредственной и выразительной форме или же восхищаться, насколько пластично они вписались в особенный стиль чужого произведения, наш герой, надо думать, стал едва ли не презирать их, добравшись наконец туда, где ум превыше всего.
Вот откуда взялось удивление, которое он испытал, когда шуршание разбрасываемой ногами палой листвы оживило в памяти остатки сокровищ, коими, как ему представлялось, он отродясь не владел. Жюль напомнил себе, что все же некогда был юн, телом и душой как нельзя лучше приспособлен для жизни и все существо его в те времена расцветало под лучами счастья, будто растения под солнцем, и, если бы то было угодно небесам, он смог бы жить в радости: ведь бывают же на свете люди, прогуливающиеся под руку с возлюбленным предметом, любуясь звездами. Знакомы ли другим те непрерывные муки, превращающие сердце человеческое в ад, вечно носимый под ребрами, или он — единственное на земле создание, задумывающееся над всем этим? Тут он сделал ревизию своим любовям, всем тем праздничным мотивам, что когда-то звучали в его мечтах, одеждам, что его прельщали (например, шарфикам, что свешивались с балконов, длинным платьям с волочащимся по ковру шлейфом), детским, а потом и юношеским иллюзиям, великой своей обманутой любви и той сумрачной поре, что за ней последовала, мыслям о смерти, страсти к полному уничтожению, затем тому, как он внезапно восстал с колен, а еще гигантским задачам, поставленным перед собой, и самоослеплению при первом обзоре способностей собственного ума; он перебирал в памяти дальнейшие свои прожекты и намерения, многоразличные восторги перед совершенством чужих творений, бесплодные попытки воспарить мыслию, следующие за ними падения и припадки смертоносной скуки, притом все более унизительные, ведь каждый раз перед тем ему удавалось достичь новой высоты.
Однако ж из всего этого вытекало его настоящее, представлявшее собой сумму всех слагаемых, что и позволяло теперь их обозреть; каждое событие давало рождение другому, всякое чувство претворялось в мысль. Он, например, извлек из минувшего опыта особую теорию любострастия, коего более не испытывал — собственные переживания пришли наконец к подбиванию итогов: если они были ложны, то потому лишь, что неполны, если узки, их следовало по мере сил расширить. Значит, в этой чреде восприятий наблюдалась некая последовательность и причинная связь, как в математике, каждое неизвестное проблемы само являлось задачкой, требующей разрешения.
Но поскольку последнего слова здесь добиться невозможно, к чему столько трудов, не проще ли попытаться его предугадать? Неужели в этом мире не отыщется способа достигнуть истины? Если таким средством стало для него искусство, им следует воспользоваться. И, кто знает, пришел бы он к подобной идее искусства, к чистому искусству — без миновавших подготовительных мучений, если все еще барахтался бы в паутине множества конечных целей? Желающий исцелить раны людские должен привыкнуть к их запаху, на руках кормчего — мозоли от штурвала, тому, чье поприще — сердце человеческое, приходится защитить доспехом уязвимые места и нахлобучить на голову шлем с опускающимся забралом, дабы жить спокойно посреди разожженного им пожарища, не получать ран в сражениях, за коими он наблюдает. От непосредственного участника событий ускользает их общий план, игрок нечувствителен к поэзии игры, ставшей второй его натурой, развратник — к необозримым последствиям разврата, как любовник не в силах оценить все лирические переливы чувства, а человек религиозный, быть может, — истинное величие религии. Если каждая страсть или главенствующая в жизни идея есть лишь круги, где мы вертимся, пытаясь окинуть взором очерченное ими пространство, незачем замыкаться в их пределах, надо искать выхода вовне.
К тому ж, в чаянье самооправдания убеждал он себя, разве отринуть разом несколько эпох собственного существования не значит повести себя так же глупо, как историк, который стал бы отрицать эпохи исторические, одобряя одну часть деятелей, порицая другую, слагая хвалы такому-то народу и изрыгая проклятья по поводу некоей расы, то есть поставив себя на место Провидения и желая преобразовать плоды его трудов? А значит, все, что он испытал, перечувствовал, выстрадал, произошло ради неведомых ему целей, имеет однозначно определяемый смысл, пусть не внятный ему самому, но от этого не менее реальный.
И тут ему пришло в голову, что все, казавшееся некогда ничтожным, могло обладать какой-то красотой и гармонией; синтезируя их и очистив до степени абсолютных принципов, он обнаружил там некую чудотворную симметрию, выразившуюся хотя бы в возвращении одних и тех же мыслей при периодическом созерцании тех же вещей, сходных чувств по отношению к похожим явлениям: в таком совокупном действе принимала участие вся природа, целый свет бесконечное число раз воспроизводил бесконечное, являя нам отражение лика Божия; искусство выводило все эти линии, выпевало каждый звук, высекало из камня всякую форму, схватывая соотношение пропорций, и, двигаясь неизведанными путями, приводило их к красоте более совершенной, нежели само прекрасное как таковое, поскольку она восходила к идеалу, из которого проистекло это последнее, к тому, что вызывает у нас восхищение, — сей восторг ума перед блистательным явлением Бесконечного Разума, молитву, что радостно возносит к нему искусство, узнавая в его природе собственные истоки, гимн, сопровождаемый как бы воскурениями ладана в залог своей любви.
Жюль поднял голову. Воздух был чист и пронизан запахом вереска. Он его вдыхал полной грудью, и что — то невыразимо свежее и живительное наполняло душу; безоблачное небо было белесым, словно парус, заходящее солнце уже не пускало лучей, являя взору светящийся лик, которым можно было любоваться, не жмурясь. Ему показалось, будто он очнулся от сна: стало зябко, как при пробуждении, и он так же наивно удивился при виде знакомых предметов, в такие мгновения кажущихся обновленными; мир вокруг него впал в беспамятство, и он совсем в нем потерялся. Где он, что это за места, какое время суток, что он тут делает, о чем только что думал? Жюль пытался собраться с мыслями и вернуться в то настоящее, откуда выпал.
Он услышал, как что-то пробежало по траве, обернулся — и тут к нему внезапно с громким заливистым лаем кинулась собака, принялась лизать руки; голос у бедного зверя был протяжный, переходивший в рыдающие завывания. Псина выглядела тощей, ребра торчали, словно у голодной волчицы, вид несчастный и одичавший: она вся извалялась в грязи, шкура с залысинами, как от парши, кое-где едва прикрытая длинным редким, черным с сильной сединой волосом, да вдобавок бедняга прихрамывал на заднюю лапу; ее глаза пожирали Жюля, в них светилось бешеное любопытство к его персоне, собака крутилась вокруг него, жадно обнюхивая.