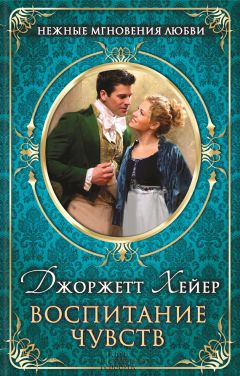Гюстав Флобер - Первое «Воспитание чувств»
Он услышал, как что-то пробежало по траве, обернулся — и тут к нему внезапно с громким заливистым лаем кинулась собака, принялась лизать руки; голос у бедного зверя был протяжный, переходивший в рыдающие завывания. Псина выглядела тощей, ребра торчали, словно у голодной волчицы, вид несчастный и одичавший: она вся извалялась в грязи, шкура с залысинами, как от парши, кое-где едва прикрытая длинным редким, черным с сильной сединой волосом, да вдобавок бедняга прихрамывал на заднюю лапу; ее глаза пожирали Жюля, в них светилось бешеное любопытство к его персоне, собака крутилась вокруг него, жадно обнюхивая.
Сначала Жюль пришел в ужас, потом в нем шевельнулось сострадание к бедному животному, жалкому и всеми брошенному. Собака, очевидно, потеряла хозяина, таких все с воплями гонят прочь, и они рыщут по полям, их окоченелые тела находят по обочинам дорог, и никто никогда не смог бы узнать, кому эти псы принадлежали. Жюль прогнал ее, но она вернулась и принялась за свое; не желая бить, он еще прикрикнул, грозя ей, но псина, услышав его голос, начала прыгать и ласкаться пуще прежнего. Наконец, он подобрал камень и запустил ей в бок, она жалобно взвизгнула и, поджав хвост, вывалив язык, проползла на брюхе к его ногам, ткнулась носом ему в колени и замерла.
Откуда такое странное упрямство? Может, он ее уже когда-то видел? Но где? Он попытался ее рассмотреть, между тем и пес жадно заглядывал ему в лицо горящими глазами, словно желая что-то сказать.
А вдруг это Фокс, тот самый спаниель, которого он подарил Люсинде? Наверное, она потеряла его, и он, не найдя хозяйку, вернулся в знакомые места, к старому дому? По размерам так могло статься, и видом схож, и почти такая же шерсть. Он окликнул: «Фокс, Фокс!» Пес на секунду отбежал попить из канавы, залез в воду по брюхо, чтобы омочить усталые члены, схватил зубами два-три еще зеленых стебелька росшего там камыша и начал без устали лакать воду, при этом от языка пошли круги по желтой стоячей воде — последний луч солнца бросил на нее багровый, почти кровавый отблеск.
Помаленьку смеркалось; на беловатом небе меркли фиолетовые и оранжевые тона, его уже начинала подсвечивать встающая луна. Собака подошла и легла у ног Жюля, медленно раздвинула челюсти и зевнула в печальной меланхолии: человеку никогда не исторгнуть вздоха, исполненного такой неизбывной тоски.
Но откуда пришла эта зверюга? Что ей надо? Чем больше он на нее смотрел, тем яснее узнавал своего прежнего спаниеля, но почему тот не отзывается на свое имя? Может, Люсинда нарекла его как-то иначе, а потом выгнала, не желая с ним возиться, и даже побила, чтобы пес ушел. Давно ли это было? Где он путешествовал с нею? Где они расстались? По каким дорогам он приплелся сюда?
Жюль вдруг ощутил бесконечное сострадание к этому низшему существу, взирающему на него с такой любовью. Он тотчас вспомнил, когда ему подарили собаку: то был четверг, день его рождения, щенка принесли в корзинке, застланной хлопковой ватой; припомнил он и дни, когда Фокс, совсем маленький, был почти неприметен на лужайке, он бегал там, чихая от травинок, коловших его в нос; поутру он залезал в постель к Жюлю, играл с простынями, кусал одеяло, трепал маленький коврик, лежавший у кровати, а вечером, когда Жюль возвращался из коллежа, пес узнавал шаги и издали приветствовал его приход громким лаем. Когда Жюль выходил из дома, он брал спаниеля с собой, позволяя ему бегать туда-сюда, охотиться в живых изгородях, наводя ужас на кур, сидевших за забором, носиться галопом, пока его хозяин прогуливался и мечтал. Затем пес вырос, стал красавцем, все им восхищались, дамы гладили его, теребили белыми пальчиками шелковистую шерстку, клали ладонь на тонкий длинный нос… Люсинда увидела его, поцеловала и захотела взять себе.
«Ах, почему он отправился с нею? И где те времена, когда его точеные лапки цокали когтями по вощеному паркету комнаты прежнего его хозяина?»
Он переспросил:
— Это ты? Это ты, Фокс? Фокс, ты меня узнаешь?
И погладил пса. Но прикосновение к теплой коже, голой, в струпьях, вызвало у него такое тошнотворное отвращение, что он отдернул руку и отстранился.
А собака все бежала за ним. Нет, это не он, не Фокс! Этот гораздо меньше, да и черное пятно на спине было несколько ближе к голове… Ах! Ужасная псина! На ляжке болтается шанкр, спина сгорбилась и прогнулась, из-за этого нос свешивается почти до земли, кажется, будто она там что-то только что отрыла; чтобы поглядеть вбок, собака поворачивает голову как — то косо, и хромает она сильней, чем раньше, она вообще еле ходит, двигается как-то прыжками…
Брезгливо томясь при виде ее уродств, Жюль силился на нее не смотреть, но взгляд под властью непобедимого притяжения снова и снова обращался к собаке, и он, разглядев хорошенько, насытившись этим зрелищем, содрогался и в страхе отворачивался. Однако тайный голос тотчас мощно приказывал ему вновь посмотреть на чудовище, и помимо воли он повиновался.
Но вот он, призвав на помощь всю свою смелость, решил разом все покончить, освободиться от наваждения: он отважно надвинулся на пса и замахнулся… жест был великолепен… но пес все смотрел на него. Жюль сделал еще шаг к нему, тогда, прыгая с трудом на трех лапах и протяжно подвывая, собака сама приблизилась и посмотрела на него с такой добротой, что он почувствовал, как сердце сжалось от нежности, несмотря на томивший его страх.
Жюль снова пустился в путь, пытаясь думать о чем-то постороннем, он шел быстро, собака бежала по его следам; за спиной он угадывал, как она торопливо, с трудом прыгает, вторя каждому его шагу. Он зашагал еще быстрее, но пес не отставал, он побежал, собака — за ним; наконец, он запыхался и пошел медленно. Дул ветер, полуголые деревья качали кронами и стукались ветвями, листья колючих изгородей подрагивали.
На некотором расстоянии от реки собака внезапно обогнала Жюля и, не прекращая бежать, но то и дело оглядываясь, казалось, просила следовать за ней.
Подобравшись к кромке воды, пес свернул на тропку, пробиравшуюся вдоль течения через ивняк и крапиву, потом вернулся назад, вновь и вновь повторяя тот же путь, но пробежки раз от разу делались длиннее и стремительней, при этом он отрывисто и злобно лаял, носился туда-сюда, приближался к Жюлю и покидал его снова, увлекая за собой, подводя туда, откуда сам только что ушел, направляя его шаги… ребра пса шумно вздымались и опадали, шерсть встала дыбом, лапы тряслись, глаза таращились на молодого человека, весь он раздувался, усиленно дыша, то начиная лаять, то внезапно замолкая, и лай стал хриплым, ожесточенным, он с храпом рвал воздух, в нем участвовало все тело, и это длилось, длилось… а когда пес скрывался куда-то под арку моста, казалось, его настигал новый приступ ярости, и устрашающий лай усиливался.
Наступила ночь. Мельничное колесо остановилось, вода падала в черноту, клочья пены от маленького водопада то и дело уносило быстрым течением, и тогда их было видно, эхо в долине вторило лаю, нарушавшему ночную тишину.
Жюлю хотелось обнаружить какие-то мелодические вариации в монотонности этого одновременно свирепого, жалобного и настойчивого призыва, он пытался угадать его смысл, ухватить мысль, ее предмет или же некий прогноз, рассказ либо жалобу, заключенную в собачьем лае, но ухо различало одни и те же почти непрерывные, резкие, похожие друг на друга вибрации, они длились, возобновлялись и снова длились. Уставший, раздраженный этими неумолчными воплями, он, однако же, напрягал весь свой разум, пытаясь понять, и приносил мольбы, чтобы вмешалась какая — нибудь посторонняя сила и помогла бы ему нащупать связь меж этим лаем и им самим, приобщить его к собачьему языку, еще менее внятному для него, чем запертая дверь. Но ничего не случилось, не произошло, несмотря на все выкрутасы сознания: ему так и не удалось спуститься в эту пропасть. А ветер дул, деревья шумели, собака завывала.
Потом он вспомнил, что однажды — ох, как давно это было! — он уже приходил на этот мост и хотел здесь умереть. Может, это исчадье ада, крутясь вокруг, напоминает о том дне? Что спрятано в реке такое, что она без конца бегает по берегу, словно от некоего истока к одной ей ведомому концу, показывая: здесь что-то проплыло, спустилось по воде?.. Может, Люсинда? Великий Боже! Так это она? Она, утопленница, канувшая в пучину? Такая юная, такая молодая! Мертва, мертва! Погружая взгляд во мрак, туда, глубоко… еще глубже, он ожидал ее увидеть… уже видел ее в том самом белом платье, с длинными светлыми волосами, колышущимися в воде, со скрещенными на груди руками… она тихо плыла по течению, отдавшись на волю волн… быть может, она там, в том самом месте, под толщей ледяной воды, на дне реки, распростерта на позеленевшей гальке… «Так о чем взывает ко мне твой плаксивый вой, будто по покойнику?» И он уже представлял себе ее труп, с полуоткрытым ртом, с закрытыми глазами.