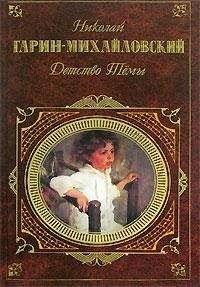Николай Гарин-Михайловский - Гимназисты
Моисеенко с восторженным чувством, зажатым там, в глубине души, смотрел на нее, счастливый ее счастьем, гордый ее чистотой, искренностью, ее несознаваемой силой. Никто из окружавших не был ей равен. Моисеенко беспристрастно старался сравнивать: одна Наташа выдерживала бы конкуренцию, если бы не ясно было, что Наташа поставлена в такие условия жизни, из которых выхода нет: будет ли ее жизнь счастливая, – это будет эгоистичное, сухое счастье сытого человека; будет ли она несчастлива, – ее несчастье – нравственный хлев с точки зрения иной жизни, хлев, в котором она задохнется, не сумев даже осмыслить общие причины несчастья своей жизни.
Горенко была избавлена судьбой от обстановки Наташи. Ее мировоззрение складывалось самобытно и свободно. Она шла туда, куда тянуло ее, – так же тянуло, как магнит притягивает железо: потому что это было свойством ее души и единственным отвлечением от той тоски, которая по временам охватывала ее. Преобладающим качеством ее души было какое-то полное отсутствие страха перед рутиной жизни – лишь бы ясна была истина и правда. Она жадно шла к этой правде, и вся жизнь ее была в ней, в этой правде. Это было так естественно, совмещалось в ней с такой какой-то особенной потребностью не выдвигаться и прятать в тайниках этот клад души, что Моисеенко иногда, слушая ее, думал, что и между людьми могут быть самородки, на долю которых судьба счастливо выделяет из грязи земли одно чистое золото. Даже то капризное, избалованное, что чувствовалось в ней, как-то распространялось только на нее одну: она была раба своего невидимого мучителя, сидевшего в ней, он мог мучить ее и только ее. Этот аристократизм чувства, эта гордая свобода, которую сулили чудные глаза молодой девушки, еще сильнее тянули к себе сердце молодого реалиста-мечтателя, и он еще глубже прятал в себе это чувство к ней.
К Горенко подошли Семенов и Берендя и заспорили вдруг: Семенов начал по какому-то поводу усердно доказывать, что все они ни больше ни меньше, как мальчишки, а Берендя, заикаясь, с своих туманных высот доказывал обратное.
– Да ведь вы сами, Семенов, говорили, – вмешалась на помощь Беренде Горенко, – что ваш отец в семнадцать лет был уже офицером.
– Что ж из этого? – оттопырив свои маленькие губы, упрямо спросил Семенов. – Время отца было проще…
– Но… но время т…твоих детей еще сложнее… дойдет до того, что и… и в шестьдесят лет в…все мальчишки.
– И дойдет, – упрямо, наклонив голову, проговорил Семенов.
– Е…е…если ч…человечество обречено бу…будет по…постоянно и в…вперед набивать с…свою голову не…ненужным хламом веков, т…то, к…конечно, оно в конце концов очутится в безвыходном положении, и п…прогресс дальнейший станет немыслим.
– Я в судьбы человечества не лезу, – сухо, с достоинством ответил Семенов, – но что нет никакого сомненья, что мы мальчишки, так это факт.
– Г…грустный факт.
– Ну, да уж это другое дело.
– Семенов, – вмешалась Горенко, – но как же вы объясните такой факт: в Китае и теперь человек до шестидесяти лет все мальчишка, а в Англии в двадцать один год празднуется настоящее гражданское совершеннолетие, – страна, у которой жизнь посложнее нашей? Возьмите наконец историю в руки, посмотрите, сколько коронованных в двадцать лет уже делали великие дела, такие, о каких их старые предшественники и подумать не смели.
– Я не знаю Англии, – сдержанно возразил Семенов, – но знаю, что у нас жизнь гораздо свободнее английской.
– О, господи! – могла только воскликнуть Горенко и во все глаза с интересом стала смотреть на Семенова.
– Не знаю, – скромно развел руками Семенов, – я знаю, например, что англичанка, в сравнении с русскими женщинами, раба… В Англии женщина – полная принадлежность семьи, и только самые близкие друзья впускаются в эту семью… И я… – Семенов убежденно уставился в платье Горенко, – вполне разделяю их взгляды.
Рыльский, подошедший в это время и слушавший Семенова с обыкновенным выражением в подобных случаях злой иронии, заметил:
– Вот бы тебе в Англию.
– Мне и у себя на родине хорошо, – язвительно, не смотря, подчеркнул Семенов и встал. Шаркнув ногой, он с высоко поднятой головой, красный, выпячивая грудь и набирая в себя побольше воздуху, пошел, отдуваясь, к передним рядам.
– Н…наконец, е…естественный в…возраст… о…одинаковый во… все века, к к…которому и должно приспособляться человечество… Вот как пшеницу сеют, можно и… и до осени сеять, но почва будет продолжать свое дело… и, сильная в период образования зерна, для весенних задач бу…будет не годна больше.
Он замолчал, встал, неловко поклонился и, задевая по дороге все, пошел наверх.
– Какой симпатичный этот Берендя, – сказала Горенко подошедшему Моисеенко, – носится себе там где-то в своих облаках…
– Диоген… О чем они тут горячились?
Горенко вкратце передала содержание.
– Какое смешное животное этот Семенов, – усмехнулась она, кончив передачу.
Моисеенко вздохнул.
– В отдельном экземпляре смешное, но в стаде подобных – страшная сила… Хуже бизонов.
Когда на эстраду вышел Леонид Николаевич и неловко поклонился, гром аплодисментов рассыпался по зале.
Лица собравшихся засияли удовольствием, смотря в молодое умное лицо лектора.
– У него очень умное лицо, – заметила Аглаида Васильевна, внимательно рассматривая его в лорнет.
Долго не умолкали овации.
Лицо Леонида Николаевича, сперва спокойное и безучастное, оживилось, глаза загорелись веселым огнем, и, когда аплодисменты стихли, он заговорил тем живым голосом, каким владел только он, голосом, который сразу приковывал к себе все внимание слушателя.
– Господа! – начал добродушно Леонид Николаевич. – Говорят, в доброе старое время тридцатых и сороковых годов жил один усердный поклонник своего времени. Усердие свое он простирал до того, что, не довольствуясь общеустановленной строгой цензурой тех времен, завел себе на свой счет цензора, обязанность которого состояла в том, чтобы красным карандашом вычеркивать из того, что он читал, все то, что могло его огорчить. Об этом в свое время много говорили, смеялись, но оригинал продолжал себе жить и испытывал своеобразное наслаждение в добровольном лишении себя знать истину, полагая, вероятно, в этом всю свою гордость.
Эта истина, однако, оттого только, что была отдана в бесконтрольное ведение карандаша, от взмаха этого карандаша, конечно, и не думала исчезать с лица земли и вся до последней строчки появилась в той горькой чаше, которую пришлось испить всем до дна в тяжелые дни севастопольской кампании. Оригиналу поздно стало ясно, что это добровольное нежелание знать истину создало то положение, по которому, в силу вещей и законов, истина нашла себе другие двери в жизнь и двери эти оказались более пагубными в своей совокупности, чем то, что, по частям и своевременно узнанное, послужило бы, может быть, к совсем другой развязке. В этом примере сила рутины и неспособность самому с ней справиться так очевидна, что ясно, что самый большой наш враг – эта рутина, сидящая в нас. Работа в этом направлении над собой, приобретение способности самопознавания и вытекающее из этого самопознавания уважение к своим и чужим правам и есть главнейшая светлая задача воспитания и образования. Я не разделяю этих понятий, обыкновенно относимых – одно к душе, другое к уму: душу надо понять тем же умом, и только достаточно развитой ум поймет, что этой душе нужно, чтобы эта душа была действительно душа, а не кусок старой подошвы, наподобие души Китая, которая уважается и чтится там только по количеству шариков.
Говорят, заводить речь об образовании поздно, говорят, это старый и скучный вопрос, давно решенный. Я не согласен с этим. Нет решенных вопросов на земле, и вопрос образования – самый острый и больной у человечества. Неизбежно и необходимо возвращаться к нему, как необходимо пахарю опять и опять возвращаться к своей ниве. И это не старый, скучный вопрос – это вечно новый вопрос, потому что нет старых детей, и жизнь – нива все новых и новых посевов.
Господа! Эта нива пахаря – нива жизни. Эта нива и идущий по ней плуг – закон суровой необходимости, закон, который имеет достаточно силы, чтобы неутомимо и безжалостно волочить за собой тех, кто не может уразуметь вечный и неизбежный смысл его. Чтобы чувствовать и понимать, чтобы охватить этот смысл, надо уметь смотреть вперед. Как для того, чтобы рассмотреть окружающую нас местность, надо взбираться на самую возвышенную точку, а не лезть в ямы и болота, откуда ничего не видно, так и в образовании людей необходима эта возвышенная точка, эта его обсерватория, с которой он мог бы общим взглядом всегда окидывать и свою, и окружающих его деятельность. И чем выше эта его обсерватория, тем производительнее работа, тем меньше риску потеряться и застрять в дебрях жизни. Высотой этой обсерватории, полетом мысли нации делятся на культурные и некультурные, миссии их бывают или исторические, – правда, путем страдания, но они все-таки несут людям высшую формулу человеческой жизни, – или же жизнь народов сводится к зачаточной и прозябательной. Народы Азии и Африки уже обречены на вечное рабство. Громадные полчища Ксеркса легли под ударами десяти тысяч осмысленных людей. Четыреста миллионов китайцев, несмотря на массовую стадность, – только жалкая игрушка в руках горсти англичан. Славянские народы, пример более поздней эпохи, все они не свидетельствуют ли все о том же суровом и неизбежном законе истории, ясно говорящем, что время не ждет и не прощает ни одного потерянного мгновенья.