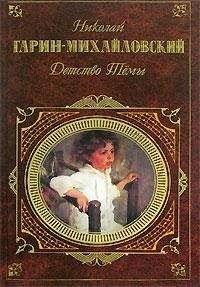Николай Гарин-Михайловский - Гимназисты
Леонид Николаевич, вошедший в это время из коридора, скучный, равнодушный, мельком посмотрел на Карташева, скользнул взглядом по директору и, не меняя равнодушно-усталого вида, прошел в учительскую.
– Вылететь вон захотелось? – равнодушно, просто спросил, подойдя, директор.
Он сделал небрежную паузу и прибавил:
– Что ж, и вылетите…
Это было сказано таким простым голосом, что Карташев ни на мгновение не усомнился, что так и будет.
– Ваше превосходительство…
Карташев знал, что директор требует такого обращения, но надеялся, что никогда не придется ему именно так величать нового директора; теперь же не только проговорил «ваше превосходительство», но проговорил так мягко и нежно, как только мог.
– Что ж «ваше превосходительство»?.. – спокойно спросил директор, ожидая, что еще скажет Карташев.
– Я очень сожалею, если оскорбил учителя… но он слишком не щадит самолюбия…
– А оно, очевидно, велико у вас, так велико, что по спискам вы оказались последним: действительно, задел самолюбие…
Директор брезгливо ждал ответа.
Карташев потупился и молчал.
– Я думаю, что мы можем договориться с вами с двух слов: первая жалоба учителя – и вас не будет в гимназии. Понятно?
– Понятно, – прошептал Карташев.
– Ну, и марш!
– Что? что? – посыпалось на Карташева, когда он вошел в класс.
– Ничего, – пожал плечами Карташев, – сказал, что выгонит.
Карташев сел и безучастно задумался. Хорошего было мало: если не выгонят, то срежут; и, несмотря на это сознанье, он чувствовал какую-то роковую неспособность переломить себя и засесть за эту проклятую латынь.
Другой приговоренный, Ларио, был, напротив, весел и беспечен, он напевал из оперетки и с треском передавал содержание пикантных мест ее.
– Да-с, – многозначительно протянул Корнев, косясь на Карташева, – вы все-таки, господа, того… ухо востро держите… вы тоже, signior Ларио… Смотри: опять застрянешь.
Он любовно, добродушно хлопнул по плечу Ларио.
Ларио нетерпеливо дернул плечом.
– Начхать…
– Эх, ты…
– Да, уж вот такой, как есть: что люблю, то люблю, чего не люблю – извините…
Ларио сделал комичный жест и, скорчив отчаянную физиономию, крикнул бодрясь:
– Кто со мной в оперетку?
– Да брось ты свою оперетку, – отвечал лениво Корнев.
– Вася, не фальшь! Говоришь не то, что думаешь: дай себе отчет. Стой! зачем бросить?
– Разврат же…
– То есть в чем?
– Ну, точно не знаешь? чуть не голые выходят на сцену…
– Врешь… выходят в древних костюмах… Чем же бедненькая Еленочка виновата, что тогда так ходили… Постой… Ты классик? Ну, и должен ей сочувствовать. Да, наконец, отчего же и не посмотреть это самое декольте? Я не знаю, как ты, а я во~ какой корпуленции и в монахи не собираюсь.
Ларио конфузливо щурился и, маскируя неловкость, пускал низкие ноты «хо-хо-хо!».
– Рыло, – задумчиво хлопал его по брюху Корнев, в то время как компания смотрела на Ларио с каким-то неопределенным любопытством.
– Вот те и рыло… Мне, батюшка, жена самонастоящая и то впору, а ты рыло.
– Пожалуй, и от двух не откажешься, – весело подсказал Долба.
– Черт с ними, давай и две.
– Действительно, в сущности… – говорил Корнев, любуясь сформированной широкоплечей фигурой Ларио.
Ларио быстро поворачивался, хлопал себя наотмашь и спрашивал:
– Il у à quelque chose, messieurs, la dedans, n'est-ce pas?! [10] А ты с латынью да с экзаменами… Всякому овощу свое время… Тятька-покойник, пьяница и николаевский полковник…
– Ох, черт!
– …никак не мог понять, отчего я пареной репы не любил: так и умер с тем, что не понял… Бывало, бьет, как Сидорову козу: «Ешь, подлец, репу!» – «Не бу-ду есть ре-пу!» Так и умер. Умирая, говорит: «Драть тебя некому будет».
Учитель словесности окончательно свалился и умирал от чахотки, лежа один в своей одинокой квартире.
– Жаль человека, – говорил Рыльский, – а все-таки кстати.
– Ох, зверь человек! – улыбался Корнев на замечание Рыльского.
– А что бы он с нами на экзамене сделал?
– Да бог с ним, – пусть умирает.
Новый учитель, молодой бесцветный блондин, мял, тянул, выжимал из себя что-то, и дальше биографий не шел.
– В сущности, жаль все-таки, что Митрофан Васильевич свалился, – говорил Корнев, – ну, перед экзаменами бы еще так и быть…
– Жаль, жаль, – соглашался Долба, – в прошлом году он обещал коснуться разных веяний.
– Положим, судя по началу, вряд ли бы удалось ему в нынешнем году…
Корнев лениво вытянулся и сладко зевнул.
– Черт его знает, тощища какая… Гоголь был сын, Пушкин был сын… Ах, ты сын, сын – тянет, тянет, душу всю вымотает…
Невесело было и на уроках истории. Леонид Николаевич ходил скучный и неохотно вступал в какие бы то ни было разговоры. И у учеников стал пропадать вкус к ним.
– Черт его знает, старше становимся или глупеем, – сомневался Корнев.
Было ясно одно: гимназия делалась все больше и больше чужой. Там, в темных коридорах младших классов, кипела жизнь, раздавался визг и хохот, но знакомую читателю компанию уже не манила эта жизнь, и, сонная, равнодушная, она тянула время, как бы говоря своими апатичными, скучащими фигурами: лишь бы прошел день до вечера.
Чтение как-то тоже не шло на ум.
Карташев часто, лежа на диване, думал и копался в себе: что его интересует?
Уроки? К ним, кроме смертной тоски и томления ничего не ощущалось. Чтение? Прежде он любил его, чувствуя какую-то новую почву. И пока эта почва чувствовалась, и чтение было интересно. Но эта почва как-то ускользнула, что-то, какая-то связь точно порвалась: книга осталась книгой, а жизнь пододвинулась и во всех своих проявлениях так не схожа с книгой, что, очевидно, книга одно, книга – дело рук неопытного идеалиста, а жизнь имеет свои, совсем какие-то другие законы. С одной стороны, что-то тянуло к этой жизни, тянуло мириться с ней, приспособиться к ней, с другой – было скучно и уж не было того идеального чувства ни к жизни, ни к матери, какое было раньше, несмотря на всякие споры и протесты и его и ее. Теперь и споров почти не было, – было просто равнодушие, апатия и сознание, что мать такой же человек, как и все. И от этого сознания делалось еще скучнее, и Карташев тревожнее рылся в себе и искал своих желаний. Может быть, он хочет любить? Нет, он никого не любил и не хотел любить. Прежде он хотя лакомства любил, – теперь и их разлюбил.
«Неужели же так-таки ничего решительно я не люблю?» – подумал с некоторой тревогой Карташев.
Он еще раз проник в себя и не нашел в себе ничего, что вызывало бы в нем охоту к жизни.
«Таня!» – мелькнуло вдруг где-то в сердце и замерло в истоме.
«А если бы я к ней пришел вдруг ночью?!»
Карташев задохнулся и испуганно гнал эту мысль. Но мысль не уходила, овладевала сильнее, и в фантазии Карташева проносились одна другой соблазнительнее сцены.
– Тёма, на кого ты стал похож, – говорила Аглаида Васильевна, – бледный, желтый, синяки под глазами…
Карташев смущенно улыбался, тер свое лицо руками и, когда оставался один, долго и пытливо смотрел на себя в зеркало. Он догадывался о причине своего потускнелого вида, давал себе клятвы не думать о Тане и в знак твердого решения энергично садился за уроки. Но какая-то сила снова возвращала его все к той же мысли.
Иногда вдруг среди урока в гимназии его охватывало тяжелое воспоминание, и, удрученный, он погружался в самоанализ. Он спохватывался от этого самозабвения и часто на лицах других товарищей читал отпечаток своих мыслей. Однажды он прочел на лице Корнева свои ощущения и долго потом подавлял неприятное, брезгливое чувство к нему. По временам он питал такое же чувство и к себе, и тогда тоска охватывала его сильнее, и он томился и не знал, что же ему делать с собой? В обыкновенное время он подавлял свою память, но она сковывала его невольно, и это резко обнаруживалось в его манере, конфузливой и неуверенной и в то же время какой-то вызывающей.
Аглаида Васильевна часто незаметно и пытливо всматривалась в сына и думала тревожную думу.
Иногда она вдруг неожиданно входила в сумерки к нему в комнату и, видя сына лежащим на кровати, тревожно и огорченно спрашивала:
– Что ты делаешь впотьмах?
– Ничего, – угрюмо отвечал Карташев.
– Зажги лампу.
Однажды под вечер, когда Карташев, Семенов, Вервицкий и Берендя сидели в комнате у Карташева, или, вернее, сидел один Берендя, по обыкновению держась, как палка, и смотря, не мигая, перед собою, Карташев же с Семеновым лежали на кровати, а Вервицкий – на трех стульях, дверь распахнулась и, кружась и толкая друг друга, в комнату ворвались Ларио, Корнев, Рыльский, Долба и Дарсье.
Чтобы ей угодить, веселей надо быть,
И для вас мой приказ, чтобы жить – не тужить…
Тру-ла-ла, тру-ла-ла,
Тру-ла-ла, тру-ла-ла.
Компания с азартом вскидывала ногами, пригнув головы и подобрав фалды своих сюртуков. Долба просто откалывал самый настоящий малороссийский трепак.