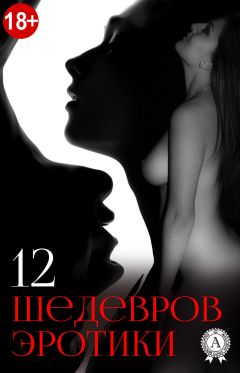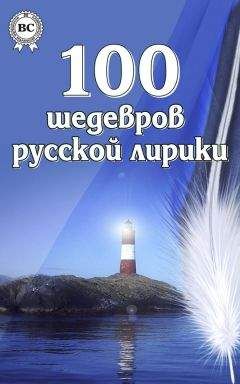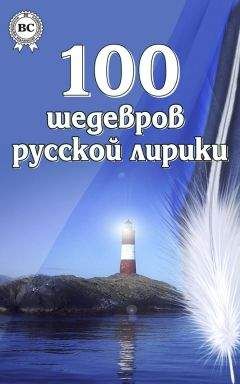Коллектив авторов - 12 шедевров эротики
Он строго осуждал Анику за слабость, мало-помалу убившую в ней большую артистку и доведшую ее до полного падения. Сам он расчетливо управлял жизнью, как машиной. По его мнению, любовь к наслаждениям вовсе не исключала силы воли. Всему свое время!
В тридцать лет он был уже председателем клуба Литературной критики и кандидатом в Академию.
Моника бездумно отдавалась укачивающему опьянению и нежно успокаивающему объятию подруги. Вспоминалось далекое детство. Но к этим ощущениям странно примешивалось какое-то больное любопытство.
В Олимпии их приезд произвел сенсацию. Вся зала смотрела на них, и это стесняло. Просмотрев несколько номеров, все присоединились к предложению Жинетты:
– Давайте, удерем отсюда!
У подъезда театра леди Спрингфильд была несколько удивлена, когда ее посадили в такси. Шоферу заплатили вдвое, и он согласился везти их всех.
Жинетта объяснила:
– Я отпустила машину и сказала, что нас привезет Мишель. Нельзя же посвящать шоферов, что мы едем в «домик»…
Леди, не понимая, переспросила:
– Куда?
Жинетта расхохоталась.
– Ну да, в лупанарий! В бардак, наконец, если ты такая дура!
– О! – воскликнула леди Спрингфильд с таким искренним возмущением, что все четверо покатились со смеху.
– Ну так что же! – сказала Жинетта. – Это единственный салон, где еще можно повеселиться без стеснения. Полная свобода. И по крайней мере знаешь, с кем имеешь дело.
Лиза, повернувшись к Монике, решительно сказала:
– Едем домой.
Но Моника шепнула:
– Ты дура.
Ее смешило это соединение теософского культа с глубокой испорченностью, тщательно скрытой под маской религиозного и светского лицемерия.
Она пожала подруге руку.
– Поедем, увидишь, как будет забавно.
Леди Спрингфильд пустила в ход последний довод:
– А если нас узнают?
– Этого не может быть, – категорически сказал Макс (он и Мишель с утра были посвящены в проекты Жинетты).
– Во-первых, нас никто там не может узнать, потому что нас там никто не знает. Во-вторых, нас никто не увидит. И затем, – он сделал напыщенный жест, – есть профессиональная тайна…
Лиза сдалась.
– Я надеюсь только, – сказала она, подмигивая Жинетте, – что твой муж…
– Не беспокойся! Он вернется не раньше часу после какого-то банкета, а к тому времени я уже буду дома. Он никому никогда не может помешать! Ну, приехали.
Таксомотор скромно остановился за несколько домов до «красного фонаря». Макс позвонил и переговорил. Экономка отдала распоряжение. Послышалось торопливое топание на лестнице, захлопали двери. С толстой экономкой во главе компания поднялась в верхний этаж. Всем было немножко неловко. Казалось, подмигивают даже стены. Макс шел сзади, спокойный и уверенный.
Они вздохнули свободно только в большой турецкой комнате. Зеркальная на этот раз была занята. Цветные лампы таинственно освещали просторное помещение и огромный глубокий диван, заваленный подушками, на котором свободно могли улечься несколько человек. Это была большая комната, меблированная в константинопольско-рыночном стиле, заказанном на площади Клиши.
Когда приказали подать неизбежное шампанское, экономка спросила, кого они предпочитают: блондинок? брюнеток? Она предложила даже, как полагается, негритянку. Но Макс отказался, и Жинетта, по совету экономки, выбрала Ирму – фламандку, а Мишель – Кармен: это настоящая испанка и притом из Севильи!
Лиза и Моника, не участвующие в играх, улеглись на диван, закинув руки за головы, как зрительницы.
Леди Спрингфильд, облокотясь о подушку, из-за плеча Моники незаметно следила за каждым их движением. Пышная красавица Ирма и нервная, изящная Кармен, вошедшие в легких пеньюарах, которые они тотчас же сбросили, сразу удовлетворили ее вкус знатока. Голая женщина стоит уже вне всяких общественных условностей. В наготе – возвращение к животной простоте, к невинности примитива.
Кроме Лизы и Моники, которые оставались одетыми, обнажились все. Жинетта, Мишель и Макс разбросали по комнате мешающую им одежду.
Лиза, горя, возбужденно следила за играми. Жинетта, вздрагивая под поцелуями, которыми фламандка покрывала ее тело, запрокинув голову, начала как всегда по-кошачьи мурлыкать, а рядом с ней Кармен, Мишель и Макс извивающейся гирляндой сплетались в одно кольцо.
Опьянение Моники прошло совершенно. Она со скукой смотрела на Лизу, жадно наблюдающую дрожь сплетенных тел.
Волнение неофитки! Сколько раз сама Моника в подобных же местах, с такими же женщинами, точно так же напрасно пыталась найти наслаждение! Мишель и Жинетта, другая Кармен или другая Ирма – знакомые, привычные, почти что безымянные тела, и чувство отвращения к себе и к окружающему, и никогда, никогда не достигаемое забвение…
Монике захотелось вскочить и бежать, но удушающая жара, усталость и страшная лень приковали ее к дивану.
Над ней склонилось лицо Лизы. В ее глазах она покорно прочла побеждающее желание. Жадные губы впились в губы Моники. Трепещущее горячее тело обвилось вокруг ее тела, как горячая лиана. Моника вздохнула, покорилась…
Через несколько дней после этого Лиза утром уехала в Лондон, где должна была присутствовать на балу в Букингемском дворце, устраиваемом по случаю обручения принцессы Марии.
Моника пошла в Луврский музей. Она шла туда в надежде хоть немного встряхнуться и рассеять все учащающиеся припадки неврастении. Надо было подобрать к тому же мотив орнамента для «Сарданапала» – пьесы из вавилонской жизни Фернанда Дюссоля. К декорации третьего действия – терраса над Евфратом – нужны были рисунки для стен между колоннами.
Задуманные Клэр цвета и рисунки вполне удовлетворяли вкус старого автора, но, к несчастью, не понравились Эдгару Лэру, распоряжающемуся всем.
Моника, глядя на монументальные лепные карнизы и на крылатых быков, печально думала об умерших цивилизациях и о тщетности своей собственной работы.
Какой-то посетитель остановился в нескольких шагах, разглядывая орнамент. Он обернулся. Их глаза встретились. Он поклонился. И Моника узнала Жоржа Бланшэ. Избежать встречи было уже невозможно.
После незабываемого свидания у Виньябо она с ним виделась раза два или три: однажды на улице Медичи, но там, настроенная враждебно, с ним не разговаривала.
Потом, в воскресенье, у г-жи Амбра – с большей уже симпатией.
Бланшэ, после выпуска в свет своей замечательной книги, только что получил кафедру по философии в Версальском лицее и приезжал в Зеленый домик за справками для статьи о бесприютных детях. Это был безусловно умный и честный человек. Но Моника не могла простить ему его так оправдавшихся впоследствии пророчеств.
Он был любезен, как тогда, и так же, как тогда, походил на епископа своим бритым, смеющимся лицом. Может быть, только немного пополнел.
Бланшэ вежливо расспросил Монику о ее работах и поздравил с успехом. Она отвечала нехотя, с полным безразличием.
Он, удивленный, стал в нее вглядываться внимательнее. Еще так недавно ослепительный цвет лица потерял свежесть. Под потускневшими глазами легли темные тени. Жесткая складка подчеркивала линию красивого рта.
Она почувствовала его взгляд и, не сомневаясь, что он знает о ней многое от г-жи Амбра, с горечью спросила:
– Вы находите, что я изменилась. О, пожалуйста, без комплиментов! Это правда, я уже не та девочка, с которой вы когда-то рассуждали на тему о браке.
Он понял, что это ее больное место и с внезапной нежностью возразил:
– Моника Лербье прекрасна, но по-иному. И она знаменита.
Моника молчала, охваченная воспоминаниями. А он, с легкой иронией в голосе, спросил:
– Теперь вы сравнялись с теми мужчинами, против привилегий которых когда-то так протестовали?
Ей захотелось крикнуть: «К чему мне это равенство, когда я из-за него несчастна, одинока и не вижу цели в жизни. Мир мне так противен, что я уже не в силах с ним бороться! А отвратительнее всего для меня – это я сама!»
Но, указывая на гигантские камни, она только сказала:
– Равенство…
– Да, в небытии! Вот урок для тщеславных! Что остается от прошлого?
Они оба задумались о вечности, о храмах, разрушенных тысячелетиями.
Люди рождались, страдали и умирали. Все умерло, остались только бесчувственные камни. Суета сует!
Торопливо пожав ему руку, Моника ушла.
Он задумчиво следил глазами за быстро удаляющейся изящной фигурой.
Что это? Маска бесчувствия, закрывающая страдания?
И с философским спокойствием он продолжал осмотр музея.
Вернувшись домой, Моника попыталась работать, но карандаши и кисти валились из рук. Работа еще более подчеркивала ее внутреннее бессилие. Что могло бы теперь захватить целиком ее душу? Может быть, хватило бы еще и страсти и интереса…
Расширить на свой счет деятельность г-жи Амбра.
«Облегчать страдания, делать добро». Но альтруизм возможен только под старость, лет в сорок, а не в молодости. Она еще слишком молода, чтобы думать только о других. Пороки, успехи ее профессии, служащей только роскоши, – все это опутывало мягкой, но крепкой сетью.