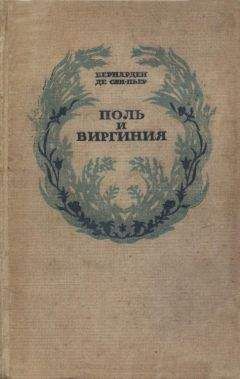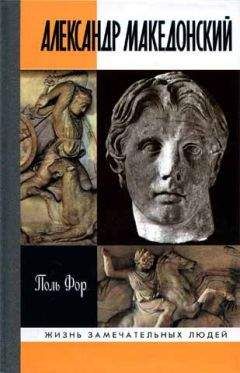Грубиянские годы: биография. Том I - Поль Жан
Гланц сказал, что теперь бы он очень хотел услышать, какие доводы можно привести в пользу второго мнения.
Клотар ответил:
– Сперва – о тогдашних свидетельствах в пользу первого. Чтобы вынести какой-то женщине обвинительный приговор, судьи нуждались не в фактах, а только в умозаключениях свидетелей; по большей части дело обстояло так, что на основании трех совершенно чуждых нам фактов – приснившегося кошмарного сна, появления дракона и неожиданного несчастья, например, падежа скота, смерти детей и т. д., – свидетели приходили к каким-то умозаключениям, и их умозаключения как раз и были свидетельствами.
Во-вторых, успех колдовства целиком зависел от вредоносного порошка – из гусениц, или улиток, или еще чего-нибудь в таком роде, – который любовник, то бишь дьявол, давал обманутой женщине вместе с «вступительным», или «вербовочным», талером, часто превращавшимся, когда женщина возвращалась домой, в черепок. Власть дьявола не приносила ей ни богатства, ни охранительной грамоты, защищающей от гибели на костре. Из всего этого я делаю вывод, что в то время мужчины пользовались верой в колдовство, чтобы, легко замаскировавшись под дьявольского любовника, самым подлым образом злоупотреблять доверием женщин; и что даже, может быть, под прикрытием ведьмовского шабаша какое-то тайное общество скрытно проводило заседание своего ландтага. В документах ведьмовских процессов именно мужчины выступают в роли дьявола по отношению к женщинам, очень редко бывает наоборот. – Непонятно только, почему женщины, при всем тогдашнем страхе перед дьяволом, как и перед адской бездной, не пугались ни появления дьявола, ни перспективы перекрещения в адскую веру [13] и вероотступничества.
Гланц улыбнулся и сказал, что теперь, как кажется, оба мнения слились в одно…
Клотар серьезно возразил:
– Отнюдь! Потому что подражание вовсе не исключает наличие прообраза, а, скорее, предполагает его существование. Нам все еще не хватает подлинной истории веры в чудо или, правильнее сказать, чуда веры – начиная с веры в оракулы и привидения и кончая верой в ведьм и в лечение по принципу симпатической магии; однако написать такую историю под силу не поборнику Просвещения, ограниченному и стремящемуся к ограниченности, а только святой поэтической душе, которая ясно прозревает величайшие достижения человечества и в себе, и в нем, а не ищет и не находит их вне человека, в материальных случайностях, – душе, которая понимает первое чудо из всех чудес, а именно, самого Бога: это первое явление духа внутри нас – еще до всех других духовидческих феноменов, – в тесном пространстве человеческой бренности…
Тут уж нотариус не смог сдержаться: такое прекрасное переселение собственных его мыслей в душу благородного юноши стало для него неожиданностью.
– Даже и в мироздании, – начал он, – поэзия предшествовала прозе, и многие ограниченно-прозаичные люди, когда они хотели что-то сказать, наверняка казались Предвечному недостаточно прозаичными.
– Какими мы мыслим себе высших существ, таковы мы сами: именно потому, что способны их помыслить; там же, где кончается наше мышление, начинается Сущий, – пламенно продолжил Клотар, можно сказать, даже не взглянув на нотариуса.
– Мы всегда поднимаем только один театральный занавес, за которым скрывается второй, и видим лишь размалеванные подмостки Природы, – сказал Вальт, который, как и Клотар, уже успел хлебнуть вина. Никто из этих двоих, по сути, не отвечал на слова другого.
– Если бы не было больше необъяснимого, я бы не хотел жить – ни здесь, ни там. Предчувствие появляется позже, чем сам предмет этого предчувствия; венная жажда – оксюморон; как, впрочем, и вечное удовлетворение жажды. Должно найтись нечто третье, подобное музыке, этой посреднице между настоящим и будущим, – сказал граф.
– Священный, духовный звук порождается материальными формами, но и сам, в свою очередь, порождает материальные формы [14], – сказал Вальт, побуждаемый к тому вовсе не желанием дружбы, а лишь стремлением к целостной истине.
– Некая духовная сила строит человеческое тело, а потом это тело начинает строить ее, однако затем она мощнее всего проявляет себя на почве телесности, – сказал Клотар.
– О, эти подземные воды глубинного второго мира, которые заурядному рудокопу-всезнайке только мешают в его горнорудном труде, грозя утопить; мешают тому, кто хочет использовать вершины лишь для бурения и углубления скважин: для подлинно духовного человека те же воды становятся великой рекой смерти, влекущей его в самое средоточие… – проговорил Вальт; он уже давно стоял за столом во весь рост, ничего вокруг не слыша и не видя.
– Обычная умственная спекуляция… – начал граф.
– Господин Фогтлэндер, – перебил Нойпетер, обращаясь к бухгалтеру (а Клотара придерживая за локоть), потому что так же охотно слушал ученые дискуссии, как и выскакивал из них, – вы, кстати, сегодня уже занесли в гроссбух 23 локтя спекуляции [15]?… А теперь можете продолжать, господин философ!
Граф уловил в словах хозяина иронический тон, понял свою ошибку, не стал ничего больше говорить и охотно поднялся из-за стола, а забытые, давно ожидавшие этого момента гости – еще охотнее. Дерзость нотариуса и его сумасбродные речи немного развлекли гостей. Церковный советник Гланц тихо объяснил соседям по застолью, как они должны понимать слова графа, и – что подобные словеса навевают на него не меньшую скуку, чем на любого из них.
Вальт же, можно сказать, в своем блаженстве воспарил на третье небо, а два других пока удерживал в руках, чтобы их раздарить. Он и граф – по его ощущениям – отныне оба носили рыцарскую цепь в знак принадлежности к ордену их дружбы; и не потому ему так казалось, что он-таки разговаривал с графом – нотариус больше не помнил о себе и о своем желании удостоиться аудиенции, – а потому что Клотар предстал перед ним как большая, свободная, играющая на морском просторе душа, которая выломала и бросила в волны все уключины; потому что дерзкая мыслительная поступь графа представлялась ему грандиозной, хотя граф не столько преодолевал большие расстояния, сколько делал большие шаги; и потому что нотариус относился к числу тех немногих людей, которые симпатизируют ценностям, непохожим на их собственные, – как рояль откликается на чуждые ему звуки духовых и смычковых инструментов.
Так любят юноши; и, каковы бы ни были их ошибки, для них, как для титанов, небо все еще является отцом, а земля – только матерью; однако позже отец умирает, матери же лишь ценой невероятных усилий удается с грехом пополам прокормить осиротевших детей.
Насколько же другими – гораздо менее коварными, скрытно-ядовитыми, по-гадючьи холодными и скользкими – поднимаются люди из-за стола, даже при дворе, нежели садятся за стол! Какие они в этот момент окрыленные, внутренне поющие, с сердцами легкими, как перышко, и теплыми, как птичий пух!
Нойпетер непринужденно пригласил графа в свой парк прогуляться – тот согласился, – и Вальт увязался за ними. По дороге придворный агент разорвал надвое цветочную орденскую ленту и куда-то сунул обрывки: чтобы, как он выразился, не выглядеть дураком.
№ 24. Антрацит
Парк. – Письмо
Граф шагал между двумя своими шаферами, левый из которых на ходу крутил колесо прялки, наматывая на веретено нить беседы и канаты любви; но часто, в самых узких проходах, маршировать втроем бывало непросто. За ними следовал рассыльный из лавки, чтобы заглаживать на песчаных дорожках следы трех пар ног. Придворный агент показывал Клотару все самые блестящие достопримечательности парка, будто рассчитывал получить за это из графских рук почетное ружье или почетную саблю: статуи детей под башнеобразными деревьями, скульптурную группу с удушающим змей Геркулесом среди цветов; но на графа, казалось, ничто не производило впечатления. Нойпетер отщелкнул на счетах «красивые суммы», уже пожранные украшающими парк статуями, особенно самыми изысканными, которые он укрывал от дождливой погоды, укутывая в самые настоящие водонепроницаемые военные накидки или рейтарские плащи, и подвел графа к Венере, задрапированной в плащ солдата караульной службы. Клотар молчал. Нойпетер же продолжал попытки заинтересовать графа и продвинуться по саду; он собственноручно принизил свой парк по сравнению с английскими парками, поставив, к примеру, парк Хэгли выше своего; «однако, – заметил он, – у этих англичан ведь и соответствующие деньжата водятся». Граф ничего не возразил. Откликнулся только Вальт: «В конечном счете любой сад, даже самый большой – и вообще всякая искусственная выгородка, – покажется крошечным детским садиком в сравнении с неизмеримой природой; только сердце может разбить настоящий сад – в десять раз меньший, чем этот».