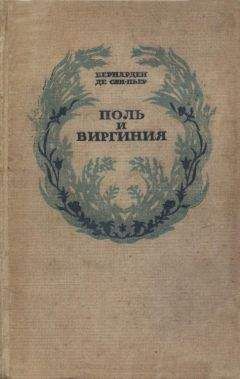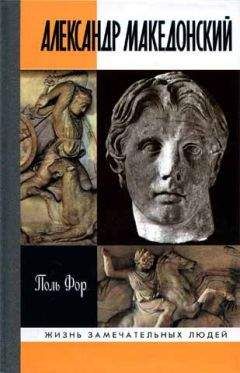Грубиянские годы: биография. Том I - Поль Жан
№ 23. Конгломераты мышино-бледных кошачьих хвостов
Застольные речи Клотара и Гланца
Итак, после того как Гланц произнес, что де именно потому, что в глазу все предметы перевертываются, а значит, и мы вместе с ними, мы никак не можем почувствовать перевертывание, – граф возразил ему:
– Почему же тогда единственное изображение в глазу не переворачивается? – Почему прооперированные слепые не хватаются за предметы, путая их местоположение? – Как связана крошечная картинка на сетчатке глаза с внутренними картинами? Почему никто не задается вопросом, почему всё вокруг не представляется нам таким же крошечным, как эта картинка?
Гланц ответил по Гарве:
– В конечном счете у нас нет никаких преимуществ, и потому наш долг – смирение.
Граф возразил:
– Я, по крайней мере, не вижу, почему я, нищий, должен проявлять смирение по отношению к другому нищему; а уж если он горд, то у меня есть перед ним второе преимущество: смирение.
В ответ была процитирована красивая фраза из напечатанных речей Гланца: дети, которые не уважают своих родителей, определенно получат соответствующее воздаяние от собственных детей.
Клотар возразил:
– Значит, эти малоуважаемые родители когда-то тоже не уважали своих родителей; и так до бесконечности, либо приходится признать, что можно подвергнуться наказанию, не совершив греха.
Гланц высказался о том, как легко перегрузить память.
Клотар возразил:
– Такое попросту невозможно. Разве удерживание чего-то в памяти представляет хоть какую-то трудность для мозга или духа? Ощущает ли человек то сокровище, которое оставили в нем двадцать прожитых лет, таким образом, как если бы его память была обременена больше, чем в юности? – И еще: крестьянин хранит в памяти не меньше идей, чем ученый, только идеи эти другие, касающиеся разных предметов, деревьев, пашни, людей. Выходит, словосочетание «перегруженная память» не означает ничего иного, кроме упущенной возможности культивирования других сил.
Гланц сказал, что, интересуясь конечными целями, можно легко подставиться под шутку Вольтера, согласно которой нос был создан ради очков.
Клотар ответил:
– Ради этого тоже: если учитывать все силы мира, то надо принять в расчет и силу шлифования стекол.
Гланц заявил: он, мол, поддерживает такую мысль и считает, как можно прочитать во всех его опубликованных речах, что в искусном устройстве мира проявляет себя вечный разум.
Клотар спросил:
– И что же представляет собой упомянутый разум?
Гланц ответил:
– Первопричину.
Граф возразил:
– Всякий искусный порядок, например, в устройстве человеческого тела, вы все же объясняете, исходя из существования слепых сил, а не постороннего по отношению к этому телу акта творения; сами же силы объясняете, исходя из понятия слепоты, – и где тогда, по-вашему, в этом насквозь механическом бренном мире может ударить молния духовности?
Гланц, помешкав, ответил, что славная ограниченная монархия, как в Англии, была бы, пожалуй, наилучшим вариантом для каждого.
Клотар бурно возразил:
– Но только не для свободы. Почему мои предки обладали свободой выбирать для себя законы, а я – нет? Куда бы я ни подался, я везде нахожу уже существующие законы. Для государства было бы идеальным, если бы крохотные федеративные государства, всегда принимающие свободные законы, распадались на федерации деревень – затем на федерации домов – и наконец на федерации индивидов, которые в любую минуту могли бы принять для себя новое законодательство.
Гланц заметил, что существование мелких государств действительно способствовало бы прекращению войн.
Клотар снова возразил:
– Как раз наоборот. Войны возникали бы во многих местах одновременно и намного чаще. Чтобы война прекратилась на всей Земле, она должна сосредоточиться в двух чудовищных по размерам государствах; из них одно поглотит другое, и тогда в этом единственном на земном шаре государстве воцарится мир, а любовь к отечеству превратится в любовь к человеку.
За десертом Гланц счел себя вправе сказать, по крайней мере: хорошо, мол, что Просвещение изгнало веру в ведьм.
Клотар возразил:
– Оно пока даже толком не приступило к исследованию этой веры.
Гланц слегка вздрогнул.
– Я не знаю, – продолжил граф, – какое из двух мнений разделяете вы, но поскольку вы можете иметь только одно мнение из двух: либо что вера в ведьм была лишь иллюзией той эпохи, либо что в основе такой веры действительно лежит нечто чудесное, – вы в любом случае ошибаетесь.
Гланц теперь вздрогнул очень заметно, но все же сказал, что он, как любой разумный человек, придерживается первого мнения.
Клотар разразился речью:
– Чудесная история ведьм засвидетельствована исторически в такой же мере, как существование греческих оракулов засвидетельствовано в сочинении Геродота; она доказана точно так же, как вообще вся история. Геродот тоже проводит четкое различие между истинными и подкупленными оракулами. В любом случае то была великая эпоха, когда боги направляли мировую историю и соучаствовали в ней; именно поэтому Геродот не менее поэтичен, чем Гомер. – Вульгарные умы воспринимают все подробности истории ведьм как результат работы воображения. Но тот, кто много читал о процессах над ведьмами, сочтет подобное невозможным. Существование охватывающей многие народы и времена фантазии об определенных, четко нюансированных фактах так же невозможно, как невозможно, чтобы какая-то нация вообразила, будто она ведет войну или имеет короля, тогда как на самом деле ни того, ни другого нет. Если объяснить любое конкретное представление о ведьмах как копию такого же общераспространенного представления, нам придется методом дедукции сделать вывод о существовании изначального прообраза. Как правило, актрисами в этой трагедии были старые, бедные, недалекие женщины, то есть персонажи, менее всего способные к фантазированию; да и вообще, фантазия создает куда более величественные и разнообразные картины. Здесь же мы сталкиваемся лишь с убогими повторяющимися историями узколокального значения: любовник, то бишь дьявол, в обычной одежде, пешком сопровождает женщину до какой-то ближайшей горы, где ее ждут танцы, знакомые музыканты, скудная еда и питье, приятели из родной деревни, а после танцев она со своим любовником возвращается домой. Рассказы о сборищах на Блоксберге, наверное, достоверны только в отношении окрестных жительниц этой горы; в других землях для танцев всегда выбиралась ближайшая гора. Те, кто хочет объяснить все признания как лживые измышления, порожденные пытками, не задумываются о феномене, описания коего можно найти в материалах таких процессов: часто после пытки обвиняемые торжественно и со страхом отрекались от двух или трех незначительных признаний, которые не спасли их от смерти; итак, отказ от половины признаний подтверждает истинность другой половины признаний, тем более что в те времена люди мыслили слишком религиозно, чтобы решиться умереть с ложью на языке.
Опьяняющие напитки и мази, с помощью которых ведьмы, согласно грезе о Блоксберге и другим подобным фантазиям, себя заколдовывали, нигде в протоколах не упоминаются и, с точки зрения физиологии, невозможны – потому что нет такого питья, которое действительно вызывало бы заранее определенные видения; и потом, чтобы воспользоваться тем или другим средством, женщина уже должна была считать себя ведьмой.
Гланц сказал:
– Почему же тогда теперь ведьм больше нет? И почему раньше всё происходило так естественно и буднично, как вы сами только что описали? Впрочем, мои вопросы, господин граф, вовсе не означают, что я верю, будто вы всерьез придерживаетесь такого мнения.
Клотар ответил:
– Вы, видно, неправильно поняли ход моих рассуждений. Как? Разве прекращение или отсутствие опыта столкновения, например, с электрическими или сомнамбулическими явлениями дает нам право сделать вывод об их невозможности? Доказательства допустимо черпать только из позитивных фактов; негативные доказательства – это логическое противоречие. Разве мы знаем предпосылки того или иного явления? Столь много людей рождается и умирает, столь много лет проходит, и среди всех этих людей нет ни одного гения; – но, тем не менее, гении существуют; – не так же ли обстоит дело и с «воскресными детьми», чьи глаза видят происходящее в мире духов? – Что касается вашего замечания о будничности, то ведь его можно отнести к любой позитивной религии, прячущейся в будничной жизни своих первых апостолов; всё духовное так же, по видимости, прилегает к естественному, как наша свобода – к естественной необходимости.