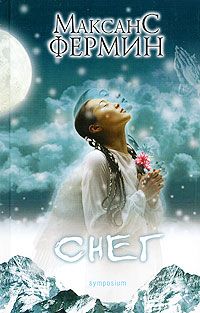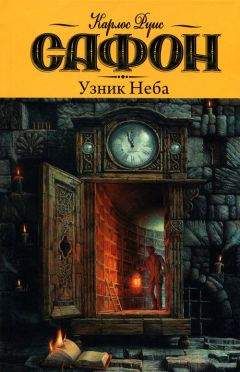Малькольм Лаури - У подножия вулкана
Меж тем слава неумолимо преследовала Хью вплоть до берегов Китая. И хотя сингапурская «Фри пресс» пестрела заголовками в таком духе: «Зверское убийство наложницы деверя», мудрено было не наткнуться там и на столбец, который гласил: «Когда «Филоктет» подходил к Пенангу, на полубаке стоял кудрявый юноша, исполняя на гавайской гитаре свое новое произведение». Со дня на день известие подобного рода могло дойти и до Японии. Но тут его выручила все та же гитара. Теперь Хью по крайней мере сознавал, что ему вспоминается. Ему вспоминалась Англия, его тянуло на родину! Да, Англия, откуда он так жаждал вырваться, словно земля обетованная, вдруг овладела всеми его помыслами, во время долгой, как вечность, якорной стоянки; глядя на иокогамские закаты, печальные, как мелодия блюза, он мечтал об Англии, словно влюбленный о даме своего сердца. Ни о какой другой даме там, на родине, он не тосковал. Хотя он испытал несколько коротких увлечений, которые в свое время даже казались серьезными, все это было давным-давно позабыто. Нежная улыбка супруги Боловского, сиявшая в темном магазинчике на Нью-Комптон-стрит, уже не манила его. Нет: ему вспоминались двухэтажные лондонские автобусы, афиши мюзик-холлов в далеком северном городке. И Бирненхедский ипподром: ежедневно два заезда, в шесть тридцать и в восемь тридцать вечера. И зеленые теннисные корты, и удары мячей об упругий травяной ковер, и стремительный их полет над сеткой, и люди, пьющие чай в шезлонгах (хотя он с таким же успехом мог предаваться этому удовольствию на борту «Филоктета»), и доброе английское пиво, к которому он с недавних пор приохотился, и старый, выдержанный сыр...
А главное, его песни, которые скоро увидят свет. Что ему до всего остального, если в Англии, быть может на этом самом Биркенхедском ипподроме, где яблоку негде упасть, их станут всякий день исполнять дважды? И разве не его мелодии напевают тихонько люди на теннисных кортах? А если и не напевают, то, уж во всяком случае, говорят об их авторе. Да, в Англии его ждет слава, не дутая репутация, в которой он сам повинен, не дешевая популярность, а подлинная слава, заслуженная слава, причитающаяся ему теперь, когда он прошел через ад, «через огонь и воду» — а Хью убедил себя, что именно так оно и есть, — по справедливости.
Но настало время, когда Хью действительно пришлось пройти через огонь и воду. Однажды другой злополучный корабль, такой же призрак минувших веков, «Царь Эдип», названный, как объяснил, помнится, опять-таки кочегар с «Филоктета», в честь еще одного разнесчастного грека, бросил якорь на иокогамском рейде поодаль, но все же опасно близко, потому что вечером обе знаменитости, увлекаемые приливом, непрестанно описывали круги на якорных цепях и едва не столкнулись, а была секунда, когда столкновение казалось неизбежным, на юте «Филоктета» все затаили дух, и, когда корабли разошлись, едва не протаранив друг друга, первый помощник крикнул в рупор:
— Почтение капитану Телсону от капитана Сэндерсона, да скажите ему, сукину сыну, чтоб он не становился на якорь, где не следует!
«Царь Эдип», на котором в отличие от «Филоктета» кочегарами работали европейцы, пробыл в плавании неслыханно долгое время, целых четырнадцать месяцев. И его измученный капитан, не в пример тому, под началом у которого служил Хью, даже не подумал бы возражать, если бы его судно назвали посудиной. Уже дважды осталась с правого борта Гибралтарская скала, предвещая не близость Темзы или Мерсея, а долгое плавание через Атлантику, в Нью-Йорк. А там Веракрус, Панамский канал, Ванкувер и долгий путь через Тихий океан, снова на Дальний Восток. И вот теперь, когда не было, казалось, сомнений, что на сей раз они возьмут курс домой, пришел приказ снова идти в Нью-Йорк. Всей команде, а в особенности кочегарам, это недоело хуже смерти. И наутро, когда оба судна стояли в почтительном отдалении друг от друга, на юте «Филоктета» появилось объявление, которое извещало, что на пароход «Царь Эдип» требуются три матроса и четыре кочегара. Если найдутся желающие, эти семеро перейдут на «Филоктет», который проплавал всего три месяца, но уже через неделю после ухода из Иокогамы должен был взять курс к английским берегам.
Разумеется, чем больше дней в море, тем больше долларов в кармане, хотя много все равно не заработаешь. Но и три месяца в море — срок немалый. А уж четырнадцать месяцев (в то время Хью и Мелвилла еще не читал) равносильны вечности. Вряд ли «Царю Эдипу» предстояло теперь пронести в плавании больше полугода, но никто не мог бы сказать наверняка; вполне вероятно, что решено было при всяком случае переводить истосковавшихся моряков на встречные суда, возвращающиеся домой, а «Царя Эдипа» продержать в море еще год-другой. За два дня перейти туда вызвались всего двое — радист и матрос второго класса.
Хью рассматривал «Царя Эдипа», который переменил стоянку, но все равно качался на волнах угрожающе близко, — словно бросив якорь в глубину его души, этот старый пароход кружил на месте, поворачивался к нему то одним, то другим бортом, порой почти надвигался на мол, а потом снова оттягивался в сторону моря. Вот это, казалось Хью, настоящее судно, не чета «Филоктету». Здесь не мачты, — одно название. А там оснастка настоящая, глядеть приятно . Мачты высокие, железные, выкрашены в черный цвет. Труба тоже высокая, закопченная. Борта заросли ракушками, обглоданы ржавчиной, краска слезла, видны пятна свинцового сурика. Судно дало заметный крен на левый, а может заодно и на правый борт. Капитанский мостик хранит на себе — ах, верить ли глазам? — явные следы недавней встречи с тайфуном. А если даже это обман зрения, судя но всем признакам, такому кораблю в самое ближайшее время тайфунов не миновать. Обветшавший, допотопный, он едва держится на воде и, пожалуй, если посчастливится, вскоре пойдет ко дну. При этом он таит в себе нечто юное и прекрасное, словно бессмертная мечта, которая вечно сияет вдали, на горизонте. Говорят, корабль этот развивает до семи узлов. И путь его лежит в Нью-Йорк! Но если пойти на него матросом, как же тогда Англия? Он не так глуп и самоуверен, дабы тешить себя надеждой, что песни его сохранят популярность целых два года и уготованная ему слава не померкнет. Кроме того, до чего же тяжко будет опять приспосабливаться, начинать все сначала. Но как знать, вдруг там он избавится от позорного клейма. Едва ли на берегах Панамского канала знают его имя. Ах, ведь и брат его Джефф бывал на этих морях, на этих пажитях житейского опыта, как же поступил бы он в подобном случае?
Но нет, все-таки это невозможно. Даже после месячной стоянки без берега в Иокогаме это выше человеческих сил. Он чувствовал себя школьником, который предвкушает близкий конец учебного года, и тут вдруг ему говорят, что летних каникул не будет, придется корпеть над уроками весь август и весь сентябрь. С той лишь разницей, что ему никто слова не сказал. Просто какой-то внутренний голос побуждал его сделать это добровольно, чтобы другой моряк, уставший от плавания, истосковавшийся по родине больше, чем он, мог занять его место. И Хью перешел на «Царя Эдипа».
Через месяц в Сингапуре он снова вернулся на борт «Филоктета», но уже совсем другим человеком. Он переболел дезинтерией. «Царь Удин» не обманул его ожиданий. Харчи там оказались прескверные. Ледника не было, его заменял сырой трюм. А главный буфетчик (ленивая свинья) целыми днями торчал в своей каюте, покуривал табачок. И кубрик был один на всех, как положено. Но ушел Хью оттуда не по своей охоте, безо всякого намерения подражать лорду Джиму, просто потому, что вышла какая-то путаница с фрахтом, и теперь надо было доставить паломников в Мекку. Рейс в Нью-Йорк отменили, и всей команде предстояло наконец вернуться домой, хотя не всякий из паломников мог на это рассчитывать. Когда Хью бывал свободен от вахты, он лежал на койке, страдал в одиночестве и чувствовал себя глубоко несчастным. То и дело он ерзал, приподниговорить: «Чего это ты на нас вкалываешь, когда мы должны бы вкалывать на тебя?» Оно и верно. Эта система как будто для тебя старается, вот увидишь, начнется новая война, и тогда работы на всех хватит. «Но не думай, что тебе эти шутки будут вечно сходить с рук, — твердишь ты в душе без конца. — Ежели разобраться, ты у нас в кулаке. Без нас, будет война или не будет, весь» божий мир пойдет прахом!» Конечно, Хью усматривал в этих рассуждениях логические изъяны. Все-таки на борту «Царя Эдипа», где не было ничего царского, никто им не гнушался и не заискивал тоже. К нему относились по-товарищески. Когда он не справлялся с работой, великодушно протягивали руку помощи. Всего один месяц. Но этот месяц на борту «Царя Эдипа» примирил его с «Филоктетом». И когда он заболел, ему не давала покоя мысль о том, что кто-то вынужден гнуть спину за него. Он вышел на работу, еще не вполне оправясь, и по-прежнему видел в мечтах Англию и свою будущую славу. Но сейчас, под конец, всего важней было не ударить лицом в грязь. Он почти не прикасался к гитаре в эти последние нелегкие недели. Казалось, все было хорошо. До того хорошо, что на прощание товарищи чуть ли не насильно сами уложили его вещевой мешок. И сунули туда, как обнаружилось, кусок черствого, словно камень, хлеба.