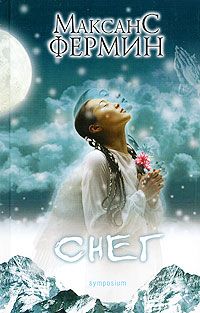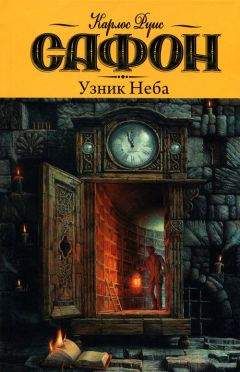Малькольм Лаури - У подножия вулкана
Но дальше дела его пошли уже не так успешно. Прежде всего издателю нужно было уплатить аванс (этот аванс внесла тетушка), и, кроме того, песни могли выйти в свет лишь через несколько месяцев. И тут он обрел ясновидение, постиг отчетливей любого из пророков, что песни эти, слишком однообразные, да к тому же изрядно пошлые и даже, можно сказать, абсурдные — впоследствии Хью до того устыдился, что самые их названия похоронил глубоко в тайниках души, — пожалуй, не приведут его к заветной цели. Ну что ж, у него ведь были и еще песни с названиями, таившими в себе, можно сказать, некий сокровенный смысл: «Саскуиханна-мама», «Тихоструйный Уобаш», «Закат на Миссисипи», «Безотрадное болото» и другие, а уж одна из них — «Я тоскую без тоски по родине» (тоскую по родине без родины), фокстрот для вокального исполнения, была проникнута подлинной глубиной и даже казалась достойной пера самого Уордсворта...
Но все это было делом будущего. Боловский дал ему понять, что охотно возьмет и эти песни при условии... И Хью не хотел обижать его, предложив их кому-нибудь другому. Да и где найдешь другого издателя, когда мало кто согласен иметь с ним дело! Но все-таки, все-таки, если те две песни будут иметь небывалый успех, разойдутся сразу, нарасхват, и Боловский наживет кучу денег, если каким-нибудь образом сделать им шумную рекламу...
Шумная реклама! Вот оно, верное средство, действенное всегда и везде, нужна сенсация, таков уж дух времени, и Хью немедля посетил морское ведомство в Гарстоне — именно в Гарстоне, потому что с весны тетушка его переехала из Лондона на север Англии, в Осуолдтуисл — и завербовался матросом на пароход «Филоктет», уверенный, что теперь уж сенсация обеспечена. Ах, Хью, конечно, понимал, как он смешон и жалок, юнец, вообразивший себя сразу Биксом Бейдербеке, чьи пластинки лишь недавно появились в Англии, будущим Моцартом и генералом Рейли в детстве, когда поставил свою подпись под контрактом в соответствующем месте, которое было обозначено пунктиром; правда, он уже тогда начитался Джека Лондона, его покорил «Морской Волк», а теперь, в 1938 году, он созрел для исполненной мужества «Лунной долины» (и особенно ему полюбилась «Смирительная рубашка»), правда, он искренне любил море и неумеренно воспетая, тошнотворная зыбь была единственной его страстью, единственной возлюбленной, которая могла бы когда-нибудь возбудить ревность его будущей жены, правда, все это действительно жило в том юнце, и к тому же сквозь строки контракта, издалека, ему мерещилась дружная семья матросов и кочегаров, манящие наслаждения в публичных Домах Востока сломом, мягко выражаясь, всякие иллюзии; но, на беду, героическая возвышенность этой затеи сильно полиняла из-за того, что Хью, стремясь к своей цели, так сказать, «без ложной скромности» предварительно обошел редакции всех газет, миль на тридцать окрест, а в тех северных краях почти все крупные лондонские газеты имели свои отделения, и гордо заявил о намерении выйти в море на «Филоктете», рассчитывая на известность своего семейства, вызвавшего сдержанные «отклики» даже в английской печати после загадочного исчезновения его отца, да на впечатление, которое он произведет, когда расскажет о готовящемся сборнике своих песен — набравшись дерзости, он утверждал, что Боловский опубликует их целиком и полностью, — все это должно заинтересовать прессу и обеспечить ему желанную рекламу, а опасение, как бы его семейство, пытаясь воспрепятствовать ему уйти в плавание. Теперь, когда на него устремлены взоры общества, не навлекло на себя слишком уж шумную рекламу и даже прямые насмешки, вынудит родственников уступить. Были и еще разные соображения; теперь Хью уже позабыл, какие именно. По при всем том газеты едва ли особенно заинтересовались бы его участью, если бы Хью не таскал по редакциям свою разнесчастную гитару. Вспомнив об этом, Хью содрогнулся. Она-то, скорее всего, и побудила газетчиков, в большинстве своем отечески снисходительных и добрых людей, возможно видевших в этом осуществление собственной заветной мечты, оказать содействие мальчишке, который непременно хотел свалять дурака. Но он об этом тогда и не подозревал. Совсем наоборот. Хью мнил себя умнейшим из людей, и несуразные «приветственные» письма, посыпавшиеся от сухопутных пиратов со всей Англии, которые кляли свою несчастную жизнь, загубленную навек, потому что им не суждено было служить на флоте, плечом к плечу со старшими братьями, во время последней войны, и лелеяли смехотворные радужные надежды на новую войну, усматривая в Хью пример, достойный подражания, — письма эти лишь укрепили его решимость. Теперь он вновь содрогнулся, подумав, что вполне мог бы остаться на берегу, вмешайся в это дело твердой рукой кто-нибудь из дальних, позабытых родичей, приди такой человек на помощь его тетушке, внезапно, откуда ни возьмись, но из всей родни откликнулся только Джефф, без промедления телеграфировав из Рабата сестре их покойного отца: «Вздор. Считаю предстоящее плавание весьма полезным Хью. Настоятельно прошу не препятствовать...» Слов нет, это был сильный удар: теперь его поступок начисто лишился не только героического ореола, но даже малейшей тени бунтарства. И хотя впредь ему ревностно помогали те самые люди, от которых он в своем воображении совершал таинственный «побег», хотя он сам возвестил о своих планах всему миру, однако же ему была невыносима мысль о том, что его «побег в море» не состоялся. Вот этого Хью так и не мог простить консулу до конца. когда Фрэнки Трамбоэр, находясь за три тысячи миль, напел на пластинку знаменитую песенку «Как нелепа жизнь моряка», в чем Хью теперь усматривал горькую иронию судьбы, среди неистовой шумихи, поднятой английскими газетами, которые следовали новейшим американским образцам и, быстро войдя во вкус, сперва поместили статьи под такими заголовками: «Юный композитор идет в матросы», «Брат знаменитого гражданина нашей страны внял зову океана», «Прощальные слова безусого гения: «Я непременно вернусь к вам, в Осуолдтуисл», «Эпопея молодого песнетворца воскрешает забытую тайну Кашмира», затем нечто маловразумительное: «Ах, по стопам Конрада!», затем нечто далекое от истины: «Песенник-старшекурсник, поступивший на грузовой транспорт, берет с собой гавайскую гитару», потому что он ведь был никакой не старшекурсник, и в скором времени один старый матрос дал ему это почувствовать, и наконец нечто совсем дикое, хотя по тогдашним обстоятельствам казавшееся вдохновенной находкой: «Хью не нужны шелковые подушки, говорит его тетушка», а сам Хью понятия не имел, куда он плывет, на восток или на запад, не ведал даже, кто такой Филоктет, тогда как последний юнга знал хотя бы понаслышке, что это герой греческих мифов, сын Пеанта и друг Геракла, от которого он получил в наследство лук, принесший ему столько же славы и злоключений, сколько Хью доставила гитара, — среди всей этой шумихи Хью отплыл, держа курс на Катауэй и бордели Паламбанга. Теперь Хью корчился на кушетке, вспоминая все унижения, какие выпали на его долю, потому что ему взбрело в голову добиваться рекламы, от таких унижений сбежишь не то что в море, а хоть в пекло... И кроме всего прочего, можно сказать, положа руку на сердце («Мать их растак, видали, что пишут в этой дерьмовой газетенке? У нас на борту, оказывается, отродье какого-то герцога или хрен его знает кто»), что отношения с матросами были у него весьма двусмысленные. Уж чего-чего, а этого он менее всего ожидал! Правда, поначалу многие приняли его довольно ласково, но, как оказалось, не без задней мысли. Они справедливо полагали, что он хорошо известен в морском ведомстве. Некоторыми руководили темные сексуальные чувства. И вместе с тем многие выказывали ему злобное, мелочное презрение, которое он никак не думал встретить среди моряков, а потом никогда не наблюдал у трудового люда. Они тайком читали его дневник. Воровали у него деньги. Украли даже рабочие штаны, а потом продали их ему же в долг, потому что перед тем сами лишили его платежеспособности. Они подсовывали ему топоры под простыню и в вещевой мешок. А потом ни с того ни с сего, когда он, скажем, драил офицерский гальюн, какой-нибудь желторотый матросик подходил к нему и говорил таинственно, подобострастным шепотом: «Слышь, кореш, с чего это ты на нас вкалываешь, когда мы должны бы вкалывать на тебя?» Хью не понимал тогда, что и он поставил своих товарищей в ложное положение, а потому пренебрежительно пропускал такие разговоры мимо ушей. Его изводили, а он говорил себе, что все к лучшему. Это до некоторой степени восполняло один из серьезнейших изъянов, какие он усматривал теперь в своей новой жизни.
Он считал свою жизнь слишком «легкой», но в весьма широком понимании этого слова. Нет, конечно же, там был настоящий ад. Но ад несколько своеобычный, чего он по молодости лет не мог оценить. Конечно, от работы руки у него огрубели, стали шершавыми, как древесина. И можно было рехнуться от жары и скуки в тропических широтах, когда приходилось торчать у лебедки или же красить суриком палубу. Это выходило похуже школьной зубрежки, или, во всяком случае, так он мог бы рассудить, если бы опекуны не позаботились отдать его в современную школу, где учеников не заставляли зубрить. Да, он испытал и то, и другое, и третье; принципиальных возражений у него не было. Дело сводилось к сугубым мелочам.